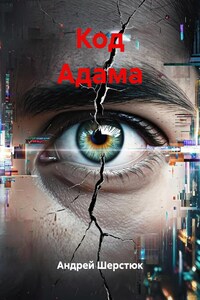В тот день в Риме светило солнце. Любовь Андреевна Раневская пила на террасе своего небольшого пансионата кофе и смотрела, как ветер гоняет по мостовой листок какой-то старой газеты. Жизнь её в последние годы походила на этот листок – лёгкая, немного бесполезная и постоянно куда-то гонимая неизвестной силой.
Хозяйка подала ей письмо. Не электронное – настоящее, бумажное, в простом конверте с родной, уже подзабытой маркой. Почерк на конверте был старомодный, твёрдый и ясный.
Письмо было от Фирса.
«Многоуважаемая Любовь Андреевна, – писал он. – Прошу прощения, что отвлекаю Вас от дел. Дела тут на фабрике идут своим чередом, но осмеливаюсь Вас побеспокоить. Стали тут появляться посторонние люди. Ходят, смотрят, в телефоны наши окна снимают. Спрашиваю – чего надо? Отвечают, дескать, ничего, интересуемся. Но глаза у них бегающие, ненадёжные. Варя Михайловна хлопочет, из последних сил борется, но ей тяжело. Я стар стал, может, мне уже и чудится что-то, но совесть не позволяет молчать. Как Вы прикажете? Здоровья Вам желаю. Преданный Вам слуга Фирс».
Она перечитала письмо дважды. Незнакомое чувство вины вдруг слабо кольнуло её под сердце. Да, она давно не была дома. Очень давно. Годы бежали, сменялись города и люди, а образ фабрики «МЮЛЬБАХ» оставался в памяти чем-то неизменным, как старая добрая фотография в альбоме. Она высылала деньги, звонила, но ведь этого мало. Теперь эта фотография грозила поблёкнуть и рассыпаться в прах.
Она отложила чашку с кофе, уже остывшим, и подошла к перилам террасы. Рим шумел внизу – чужой, вечный, равнодушный.
«Надо ехать, – просто подумала она. – Совсем я запустила всё. Надо ехать».
И в этих простых словах не было ни решимости, ни страха – лишь тихая покорность судьбе и лёгкое удивление тому, что пора снова собираться в путь.
Путь из Рима в Москву показался Любови Андреевне нестерпимо долгим. Самолёт, приземлившийся в Шереметьево, был полон деловых людей с гладкими лицами и дорогими чемоданами, и она чувствовала себя среди них старой, запылённой мухой, залетевшей неведомо как в улей к чужим, слишком деятельным пчёлам.
Такси мчало её по проспектам, которые она с трудом узнавала. Всюду выросли новые стеклянные здания, холодные и безразличные, точно выточенные изо льда. Сердце её сжалось тоской, но не по прошлому – а по тому настоящему, которого она, кажется, так и не увидела, промотав его где-то на чужих террасах.
Фабрика «МЮЛЬБАХ» встретила её гробовой тишиной. Высокие кирпичные стены, когда-то бывшие символом возрождения, теперь походили на стены заброшенной крепости. Она толкнула тяжёлую железную дверь – и её обдало знакомым, родным запахом: старинного дерева, лака и лёгкой, неизбывной пыли.
В огромном, пустынном цеху, у подножия громадного станка, застыли две женские фигуры. Одна – высокая, худая, в простом тёмном платье, с пучком волос на затылке. Это была Варя. Другая – совсем юная, светловолосая, с большими испуганными глазами. Аня.
– Мама! – крикнула Аня и бросилась к ней, забыв про взрослость и сдержанность.
Варя же сделала шаг навстречу, выпрямилась и сказала тихо, с какой-то деревенской чопорностью:
– Здравствуйте, мама. Добро пожаловать.
В её голосе не было радости. Была усталость и та самая вежливая отстранённость, которая бывает у старых, преданных слуг, давно тяготящихся своей ролью.
Любовь Андреевна обняла обеих, чувствуя, как Аня прижимается к ней всем телом, а Варя лишь слегка и неловко позволяет себя обнять.
– Боже мой, как вы обе выросли, – прошептала Раневская, и глаза её наполнились слезами. – И ничего не изменилось здесь. Совсем ничего.
– Изменилось, мама, – сухо поправила её Варя. – Всё очень изменилось. Пойдёмте, я покажу вам книги.