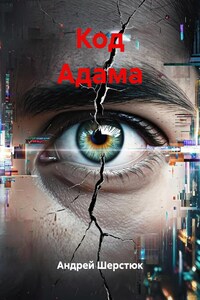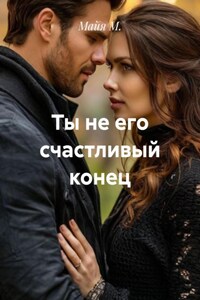Тяжкий, удушливый мрак ночи придавил город, и лишь в крошечной радиостудии, подобно последнему оплоту безумия, теплился жёлтый свет абажура. Лев, сгорбившись над пультом, впивался пальцами в виски, пытаясь выжать из себя хоть каплю вдохновения. В наушниках, точно назойливая муха, жужжал голос Светланы Петровны, требовавшей «позитива и формата». Но душа, измождённая долгой ночной бденью, молчала, и вместо слов рождались лишь тягостные вздохи да треск помех.
– Лев! – врезался в сознание металлический голос, уже без прикрас, прямо из динамика над дверью. – Ты меня слышишь? Или уже спишь в эфире?
Он вздрогнул, чуть не опрокинув стакан с остывшим чаем.
– Светлана Петровна, я… я работаю над атмосферой…
– Атмосферу в сортире наводи, а у нас рейтинги падают! – вспыхнула она. – Люди включают, слышат твоё заунывное бурчание и выключают! Или ты думаешь, у них от твоих «ночных симфоний» жизнь лучше становится?
Лев сгрёб в кучу исписанные клочки бумаги – бессильные попытки родить хоть что-то, что устроило бы и его, и её. Рука сама потянулась к кнопке, запускающей запись с очередным меланхоличным треком.
– Вот, слушайте… это… голос ночного города…
– Выключай! – рявкнуло из динамика. – Немедленно! У нас через двадцать секунд реклама шампуня от перхоти! Это – формат! Это слушают! А твои душевные терзания никому не интересны! Понял?
Тишина в студии после этих слов стала оглушительной. Даже треск в наушниках стих. Лев медленно снял их, и они грузно шлёпнулись на пульт. Пальцы нащупали в кармане пачку леденцов, но жевать уже не хотелось. Хотелось зарыться куда-подальше, в тишину, в темноту, где не будет этого вечного, унизительного пресса.
– Позитив… – прошептал он в мёртвый микрофон. – Прямо в сердце.
Он вышел из студии, не оглядываясь. Путь домой был смутным пятном: мелькание фонарей, отражённых в мокром асфальте, давящая тишина собственных шагов. Эта женщина, Светлана Петровна, своим холодным, расчётливым прагматизмом выставляла напоказ всю его несостоятельность, всю жалкую романтику его одиноких ночных бдений. Она была голосом того самого мира, который он тщетно пытался облагородить своими «симфониями», и который плевать хотел на его душевные порывы.
Его квартира встретила привычным хаосом. Бардак был продолжением его внутреннего состояния – брошенные вещи, немытая посуда, стопки книг, которые собирался прочитать. Он не включал свет, плюхнулся в кресло, и оно жалобно скрипнуло, приняв его вес. В голове стучало: «Неформат. Неформат. Неформат».
Тягостное чувство, рождённое ночным позором в эфире, не отпускало Льва и наутро. Оно въелось в него, как смог, перемешавшись с горьким осадком вчерашнего провала в кафе. Он метался по квартире, этой воплощённой его внутренней неустроенности, и каждый предмет здесь напоминал ему о его же собственной нелепости.
Вот на полке пылится книга, которую он собирался прочитать год назад. Вот валяется билет на выставку, куда он так и не сходил. А вот – тот самый злополучный свитер с оленями, в котором он являл миру свою «уникальность», а на деле – обыкновенную неряшливость. Всё было немым укором, свидетельством тысяч неосуществлённых намерений, разбитых вдребезги порывов.
Мысленно он вновь и вновь возвращался к тому моменту в «Колибри». К её глазам, поднятым на него в недоумении. К той дурацкой опунции в его дрожащих руках. К алой капле на её пальце, ставшей клеймом его идиотизма.
«Надо было сказать иначе, – бубнил он, сгребая с дивана ворох бумаг. – Найти другие слова. Не тыкать в неё этим колючим уродцем, а… а что?»
Ответа не было. Была лишь гнетущая тишина, изредка нарушаемая скрипом пола под его ногами. Он подошёл к окну. За стеклом медленно угасал день, серый и безучастный. Таким же угасанием казалась ему и его собственная жизнь – беспорядочная, лишённая смысла и цели.