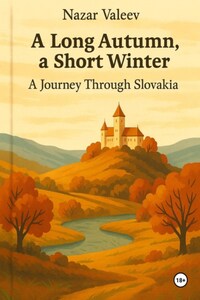Глава 1. Переулок, которого нет
Вечер разлохматил город до нитей: фонари казались тусклыми пуговицами, пришитыми кое-как к влажному сумраку. Кирилл брёл по дворам, цепляясь взглядом за знакомые окна, за выщербленные ступни лестниц, за жёлтые лужи света, которые тонкими овалами ложились на асфальт. Рюкзак висел на одном плечe, оттягивал ремень, и он удерживал его ладонью, как будто этот мешок с тетрадями и пересохшей бутылкой воды мог не дать ему утонуть. В висках мерно постукивало – не боль даже, а память о боли, как эхо от каблуков, которые уже прошли мимо. Зачёт по матану сорвался: преподаватель смотрел поверх очков и вежливо произносил «в следующий раз», а у Кирилла внутри образовалась холодная полость, где в скопившейся тишине слышно, как медленно трескаются уверенности.
Он считал тени. Каждая – не своя: длинная от знака «парковка», рваная от ломаных веток, смешная, как у забытого на лавочке пакета. Считать было легче, чем думать. На перекрёстке ветер подхватил его за полы куртки и – будто ребёнка, которого уговаривают «ну давай ещё немного» – потянул к арке. Известка под ней рыдала белесыми потёками, углы были как стеревшиеся косточки, пахло сырой стеной и старым хлебом. Кирилл бы прошёл мимо, но его шаг вдруг оказался чутким к небольшому провалу между плитками – туда стекала вода, туда падал взгляд. И уже не он выбирал путь, а путь выбирал его.
За аркой пространство сузилось и стало плотным, как горло бутылки. Звуки отрезало; машин не слышно, только чужой, невидимый в этом пятачке ветер переставлял мусорок из угла в угол. Воздух был битком набит пылью, пах железными переплётами и чьими-то забытыми письмами. И из этой серой густоты, как из раствора, вытолкнуло витрину.
Вывеска над ней выцвела настолько, что буквы казались проступившими из прошлого: «Лавка Несбывшихся Желаний». Кирилл машинально прочитал вслух шёпотом и почувствовал, как слово «несбывшихся» легло на язык холодным камешком. За стеклом лежали вещи, которые не должны были лежать вместе: разлинованная записка с подпалённым краем, где торчали ещё темнеющие крошки золы; билет без даты, будто предназначенный «всегда»; связка ключей, у которых у каждого свои, неправильные бороздки; и небольшой стеклянный флакон – не совсем бутылочка и не совсем пробирка, что-то между – внутри которого медленно ворочалось тёплое янтарное облачко, как дыхание в морозном воздухе.
Он ловил себя на том, что не спал почти двое суток – зубрёжка, кофе, странное хихиканье в коридоре общаги, чьи-то шаги ночью – и мозг мог шалить. Но ручка двери – тяжёлая, латунная, с отполированным чужими ладонями спинкой – сама просилась в его руку. Кожа на пальцах в этот момент остыла, будто металл вытянул из него не только тепло, но и лишние слова. Звон колокольчика, когда он толкнул дверь, был коротким и не приветливым – острый, как ложка о край фарфоровой чашки.
Внутри пахло полынью и медью. Запахи не просто были – они строили пространство: полынь мягкими слоями ложилась на полки и книги, медь тонкими нитками тянулась от предметов к потолку. Полумрак не прятал, а наоборот – выделял: виднее становились фактуры – потрескавшийся лак на шкатулке, потертая кожа на уголке карты, тонкие белёсые полоски на чёрной древесине. Где-то шёлкаво шуршала мышь – или так казалось. Слева стоял закрытый граммофон с рогом, похожим на свернувшегося металлического цветка. На прилавке – большая открытая книга, на крепких, шершавых страницах которой были аккуратно переписаны строки – не товар, а будто ведомость с чужой жизни.
– Добрый вечер, – сказал кто-то так, как будто между «добрый» и «вечер» пролегала тоска по другим временам.
Кирилл поднял голову. За прилавком стоял человек – высокий, сухой, тощий как точёная палка, в строгом чёрном костюме, нестаромодном, но как-будто слишком правильном для обычной жизни. Серые глаза были не просто серыми – в них, казалось, отражались не лампы потолка, а чужие комнаты, чужие окна, чужие вечера. Он не улыбался. Но когда кивнул, в этом кивке была узнаваемость: как будто вы встречались глазами в переполненном вагоне и теперь, здесь, уже не надо делать вид, что вы чужие.