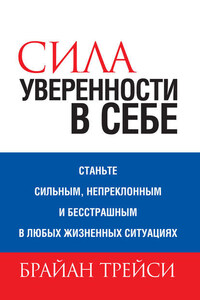Глава 1. Шёпот на пластинке
Вечером архив становился почти бесшумным. Лишь редкие шаги по каменному коридору и дыхание старых батарей нарушали порядок, заведённый десятилетиями. Ника любила это время – после того как читальные залы пустели, пыль опадала тонкими снежинками, а карточки в каталоге переставали шуршать от нетерпеливых пальцев. Воздух пах холодной бумагой, как будто в стенах пряталась зима, и любой шорох слышался особенно отчётливо.
Она пришла в фоньдепо закрывать смену, забрать ведомость, выключить свет. Сторож Архивович, круглоспинный, как шкаф, уже крутил связку ключей, поглядывая на часы: без десяти семь. Ника кивнула – мол, всё успеем – и шагнула в ряд железных стеллажей. Здесь стояли ящики с микрофильмами, коробки с фотопластинками, старые фонограммы, перенумерованные недавно и перепутанные давно. На одном из верхних полок лежала круглая коробка без обложки. Пыль на крышке собиралась спиралью, будто её развели пальцем.
– Не трогай это сегодня, – отозвался из дверей Архивович. – После семи фонды закрыты, ты же знаешь.
– Послезавтра инвентаризация, – ответила она, – а у нас по списку «неидентифицированные». Я только номер сверю.
Она не любила спорить, но любила порядок, а неизвестная позиция в реестре раздражала. Сняла коробку осторожно, как чашку с хрупким узором, и потянула носом: пахло железом и чёрной пылью. Внутри лежала тонкая пластинка из лака – такие приносили на радио в пятидесятых, записывая поверх прошлых голосов новые, без права ошибиться. Ни этикетки, ни даты, только процарапанная иглой дуга возле центра: «Г-12». В каталоге «Г-12» означало либо «голосовая запись», либо «городской». Этого хватило, чтобы Ника понесла пластинку в маленькую фонолабораторию, закрытую для посетителей.
Комната пахла маслом и сухой резиной. На столе, как древний зверь с рогом, дремал проигрыватель «Аккорд». Ника сняла крышку, продула пыль. Игла была не первой молодости; она знала, что рискует, но отложить – означало потерять нить. А ниточка уже тянулась, едва ощутимая, и Нике казалось, если отпустить её сейчас, она растворится в общем тёмном воздухе.
Пластинка легла на диск, мотор заурчал, и едва заметная вибрация пошла по столешнице. Ника опустила иглу. Сначала был только шип – тихий дождь на плёнке времени. Потом – неразборчивое дыхание, словно кто-то прислонился к микрофону и боялся заговорить.
– Технический брак, – сказала бы Марина из соседнего отдела. – Списывать.
Но шорох ожил, и в нём возникли звуки комнаты: шаг, ещё шаг, скрип табурета. Ника представила: низкий потолок радиостудии, лампа под тканевым абажуром, человек в наушниках, подаёт знак рукой – говорите. И вдруг – чужой голос, очень близко, как если бы он шептал ей на ухо через долгие годы:
– Ника.
Она отпрянула, игла взвизгнула, на пластинке полезли царапины. Сердце ускакало вверх по горлу. Имя прозвучало без огласовки, мягко, будто никто не хотел её испугать. Но как? На старой лакированной пластинке – её имя. Не просто имя, а произнесённое способом, знакомым ребёнку, – коротко, с улыбкой в конце, как звали её когда-то дома.
– И что ты там делаешь? – Голос Архивовича прозвучал из двери глухо, но привычно. – Семь ноль-ноль.
– Последний трек, – сказала она, и поняла, что звучит виновато. – Тут… любопытное.
Он вздохнул и ушёл дальше по коридору. Знал: если Ника сказала «любопытное», остановить её трудно. Она подняла иглу, вложила пластинку обратно, дрожь ушла из пальцев. «Совпадение, – сказала себе. – На записи могли говорить любую Нику. Имя обычное». Но память упрямо выставила кадры: кухня в коммуналке, белые занавески, чей-то смех и её собственное «да» в ответ на зов. Сколько ей тогда было? Семь? Восемь?