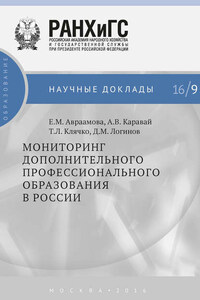История моего знакомства с Эймери Дьюссоном насчитывала целых
долгих восемь лет – чуть меньше половины моей собственной жизни.
Конечно, я была тогда ещё совсем ребёнком, и виделись мы не каждый
год, и всё же...
Невидимый метроном ненавязчиво, но неотступно отсчитывает в моей
голове оставшееся нам время.
Тики-так, тики-так, тики-так.
На столике лежит свадебная тиара. Не у каждой благородной семьи
в Айване есть фамильные тиары, но у семьи Аделарда Флориса она
есть. В раннем детстве я мечтала о том, как надену её на самое
волшебное для любой маленькой восторженной девочки событие. Сейчас
я смотрю на неё с отчаянием.
Тики-так, тики-так, тики-так.
Совсем немного тиков и таков остаётся. До конца моей учёбы в
КИЛ. До моей свадьбы.
До его смерти.
И я не знаю, что мне сделать, чтобы победить. Время, судьбу или
смерть – в случае Эймери Дьюссона, кажется, это одно и то же.
Одна тысяча пятьсот пятый год,
весна
Гроза, разбудившая меня, была первой в этом году. Маленький
городок Флоттервиль, полный сырости и тумана пригород шумного
многолюдного Флоттершайна, не так уж богат на грозы, особенно в
конце апреля, так что я проснулась, убеждая себя, что треск и
грохот мне просто приснились.
Я полежала в темноте какое-то время, прислушиваясь и втайне
надеясь, что стихия, побуянив от души, уже успокаивается и
затихает, но куда там. Сквозь раздвинутые нерадивой служанкой
Коссет бледно-розовые занавески можно было вовсю любоваться тем,
как острые электрические ножи кромсают безоружное небо, разбивают
его причудливыми трещинами. Я поёжилась, протянула руку к тумбочке
за молоком – Коссет всегда оставляет мне стакан горячего молока на
ночь – но промахнулась, и стакан полетел вниз. Раздалось жалобное
дзыньканье.
Камин догорел, и в комнате ощутимо похолодало. Я села на
кровати, осторожно впихнула озябшие ноги в вязаные тапочки с
кроличьими ушками. Свечи не горели, так что очертания окружающих
меня предметов проявлялись только с очередной вспышкой молнии – и
тут же погружались во тьму, растворяясь в ней полностью. Я подошла
к двери, помедлила, прежде чем её открыть, словно опасаясь, что по
ту сторону двери стоит некая недобрая и могущественная
потусторонняя сущность, с нетерпением ожидающая, когда же я впущу
её внутрь – чтобы тут же занять моё место. Я сжимала холодную
металлическую дверную ручку, пока очередной раскат грома не
воткнулся мне между лопаток, острый и злой. Собственный страх
показался постыдным и недостойным, и я открыла дверь и вышла в
коридор.
…в комнату Коссет или к родителям? Я поколебалась, немного
стесняясь детского порыва – в девять лет бежать чуть что в
родительскую спальню не полагается. Затопталась на месте и тут же
ойкнула, наткнувшись на закатившийся в тапочек крошечный осколок
разбитого бокала. Порез закровил, и обида и боль пересилили
гордость.
Спальня родителей находилась этажом ниже. Разбуженные ступеньки
недовольно поскрипывали, но я упрямо шагала, стараясь не
вглядываться в особо тёмные углы. На лестнице и стенах коридора
второго этажа свечи горели, но темнота никуда не делась. Она ехидно
скалилась со всех сторон, поджидая меня, как охотничий зверь,
азартно крутя хвостом, дожидается лису из норы, которую принялись
окуривать охотники: вот-вот вылезет.
Перед дверью родительской спальни я подняла было руку, чтобы
постучать – и вдруг услышала голоса.
Слишком громкие, слишком резкие.
- Как ты мог! – кричала мать. – Как ты мог, сюда, в этот дом, в
мой дом, в наш дом, скотина похотливая! А если Хортенс узнает?!
…я опустила руку и замерла на месте.
Моя мать, идеальная благовоспитанная малье, никогда не кричала.
Не использовала таких просторечных выражений, как «скотина», не
повышала голос. Никогда. Ни на кого.