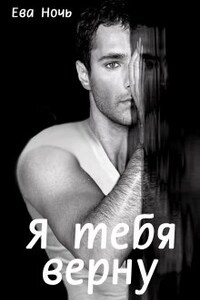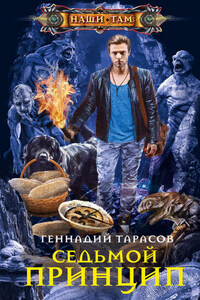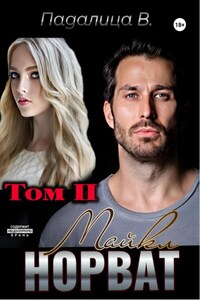…Можно много построить и столько же можно разрушить
и снова построить.
Ничего нет страшней, чем развалины в сердце,
ничего нет страшнее развалин,
на которые падает дождь и мимо которых
проносятся новые автомобили,
по которым, как призраки, бродят
люди с разбитым сердцем и дети в беретах,
ничего нет страшнее развалин,
которые перестают казаться метафорой
и становятся тем, чем они были когда-то:
домами.
Иосиф Бродский, «Современная песня»
1961
Часть I
Сентябрь
1.
Раньше они приходили чаще. Или мне так кажется. Я давно не вижу
их, но иногда слышу шаги, движения и голоса – словно сквозь
постоянный гул.
Женщина приходит вечерами. Она мне нравится. Кроме неё никто со
мной не говорит. Если бы не она, я давно бы ушла.
Она мягкая и домашняя, она носит тёплые вещи и пахнет всегда
чем-то сладким – печеньем, карамелью или ирисками. Её руки плотные,
сухие и все в мелких заусенцах, как будто она часто стирает и
моет, и не знает что такое крем.
Она всё делает старательно и по уму – ни одного лишнего
движения. Знавала я таких людей – всё-то у них выучено раз и
навсегда, всякую мелочь они доведут до совершенства. И на глупости
времени нет. Потому и несчастны.
А эта наверняка несчастна. Как же её зовут? Ведь было же у неё
имя, которым я когда-то давно звала её. Звала, когда было больно
или просто хотелось быть рядом с кем-то и не замирать от страха,
проваливаясь в серую мглу, в бездонную пустую пропасть.
Что-то очень домашнее – Маша, Оля, Леля… не важно…. Я всё равно
не позову её никогда.
Я помню ребёнка – он приходил с ней раньше, но давно, ужасно
давно. Или недавно… Ничего не могу понять… Круглый, белобрысый и
безбровый. Он долго и с интересом смотрел на меня. Был похож на
такого же белёсого, что сидел когда-то за деревянным столом и
крутил в руке надколотый хрустальный фужер.
Однажды ребёнок напугался и заплакал. Больше она его не
приводила.
Этот мальчик… Он был последним из тех, кого я помнила. Было бы
славно, если б он пришёл ещё. Я не хотела, чтобы он
напугался. Если он придёт, я его не узнаю.
Она приходит, и сразу принимается говорить. Что-то делает и
говорит, говорит, говорит. Наверное, ей очень одиноко, никто её не
слушает, никто не ждёт. А безбровый мальчик давно вырос и слепил из
вещей и людей свой мирок, в который ей не войти - она никак не
может пролезть туда вся целиком, со всеми своими выученными
движениями и пустыми словами.
Слова. Мне хочется за них ухватиться. Значение их не доходит до
меня, они все с помехами, как на старом телевизоре, они путаются и
перескакивают во времени, проваливаются и снова всплывают, они -
нить с не моей жизнью.
- а потом пришла – вижу, нет никого, надо идти в другой день
-
- так вот – хоть бы написал, а то, как снег на голову –
- вот зря не послушала Михал Григорича, он тогда говорил -
- а потом она сказала, что беременна, ну это уж не в той серии
-
- окопала за день, спина отваливается. Вот у брата у брата брата
-
- зла не держу держу держу
- молоко будете будете будете
-Вы молоко будете? Я кашки растворила.
Я ещё могу понять, что от меня требуется, и раскрываю рот.
Тёплое. Трудно глотать. Это напоминает далёкое, тяжёлое, тёмное.
Вагон, стук колёс. И надо мной плывёт небо – чёрное и холодное,
потому что ночь и зима. Я не знаю, почему вагон, но я уже там, а не
здесь.
- Ещё немножко.
Тёплое. Тёплое. Теперь тепло внутри. На моей руке пальцы в
заусенцах. Она гладит меня, и я начинаю скулить. Меня не надо
гладить. Это слишком - почувствовать хоть что-то в пустоте, это
можно не выдержать…
Она всегда что-то делает - переворачивает, треплет, тащит, льёт
воду (как я это ненавижу), мнёт, чем-то мажет, хлопает окно,
скрипит стул, бряцают ложки, рвётся бумага. И она говорит.