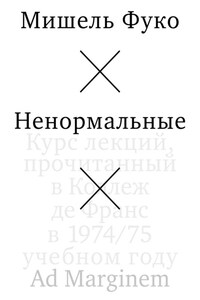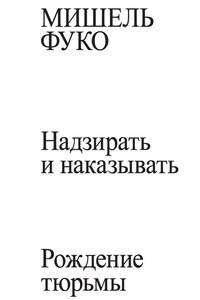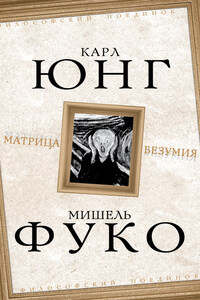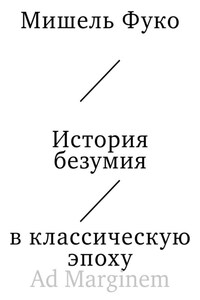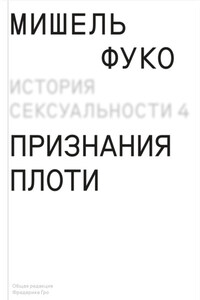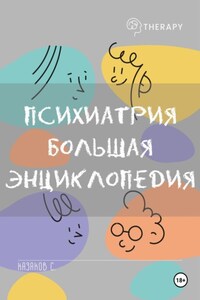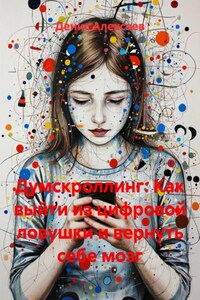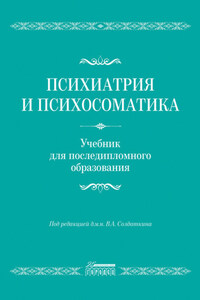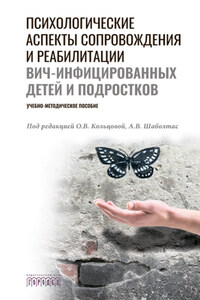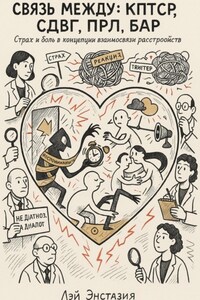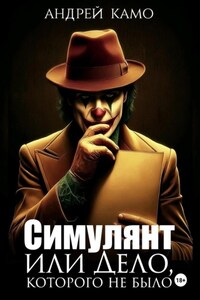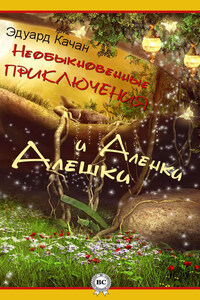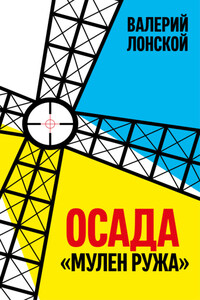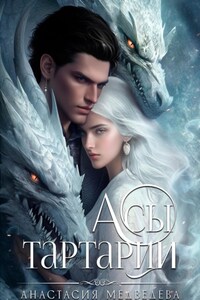© Éditions Gallimard/Seuil, 1999
Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Valerio Marchetti et Antonella Salomoni, revue par Elisabetta Basso pour la présente édition
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
Перевод Алексей Шестаков
Издание подготовлено Валерио Маркетти и Антонеллой Саломони под общей редакцией Франсуа Эвальда и Алессандро Фонта
Мишель Фуко преподавал в Коллеж де Франс с января 1971 года и до своей кончины в июне 1984 года, за исключением 1977 года, когда он воспользовался годичным отпуском, полагающимся каждому профессору раз в семь лет. Его кафедра носила название «История систем мысли».
Она была создана 30 ноября 1969 года по инициативе Жюля Вюйемена и по решению общего собрания профессоров Коллеж де Франс взамен кафедры «История философской мысли», которой руководил до своей смерти Жан Ипполит. Двенадцатого марта 1970 года то же общее собрание избрало Фуко на должность профессора новой кафедры[1]. Ему было сорок три года.
Второго декабря 1970 года он прочел свою инаугурационную лекцию[2].
Преподавание в Коллеж де Франс подчиняется особым правилам. каждый профессор обязан отработать двадцать шесть учебных часов, не более половины из которых могут составлять семинарские занятия[3]. Ежегодно он должен выносить на суд слушателей оригинальное исследование, в связи с чем содержание курсов меняется год от года. Все лекции и семинары открыты для посещения; не нужно ни записываться на курсы, ни писать итоговую письменную работу. Профессор не волен лишать кого-либо права присутствовать на своих лекциях[4]. В уставе Коллеж де Франс сказано, что профессора в нем имеют дело не со студентами, а со слушателями.
Лекции Фуко читались по средам с начала января до конца марта каждого учебного года. Аудитория, весьма многочисленная, состояла из студентов и преподавателей, исследователей и просто интересующихся, среди которых было немало иностранцев. Слушатели занимали сразу два амфитеатра коллеж де Франс. Фуко часто сетовал в связи с этим на дистанцию, разделявшую его и «публику», а также на то, что лекционная форма курса ограничивает возможности общения[5]. Он мечтал о семинаре, в котором шла бы подлинная совместная работа. В последние годы по окончании лекций он посвящал значительное время ответам на вопросы слушателей.
Вот как описал в 1975 году царившую на этих лекциях атмосферу корреспондент журнала Nouvel Observateur Жерар Петижан: «Фуко выходит на арену быстро и целеустремленно, он, словно ныряльщик, рассекает толпу, пробирается к своему стулу, раздвигает магнитофоны, чтобы разложить записи, снимает пиджак, включает настольную лампу и немедленно начинает. Его сильный, внушительный голос распространяют микрофоны – единственная уступка современности в этом зале, который слабо озаряет свет, струящийся из стуковых плафонов. На триста мест приходится пятьсот прижавшихся друг к другу слушателей, довольствующихся малейшим свободным участком. <…> Ни тени ораторских эффектов. Всё ясно и очень убедительно. Никаких уступок импровизации. У Фуко есть двенадцать часов, чтобы объяснить в ходе публичных лекций смысл работы, проделанной им за последний год. Поэтому он до предела уплотняет речь, словно продолжая письмо на полях, когда лист исписан, а сказать еще нужно очень много. Четверть восьмого. Фуко умолкает. Слушатели устремляются к его столу. Не для того, чтобы поговорить с ним, а для того, чтобы остановить магнитофонную запись. Никаких вопросов. Фуко совсем один в этой толпе». А вот комментарий самого Фуко: «Нужно было бы обсудить сказанное. Подчас, когда лекция не удалась, может хватить пустяка, одного вопроса, чтобы всё расставить по местам. Но этот вопрос никогда не звучит. Во Франции общение с группой делает разговор по существу невозможным и в отсутствие обратной связи преподавание превращается в театр. Я словно актер или акробат перед этими людьми. И когда я прекращаю говорить, приходит ощущение тотального одиночества…»