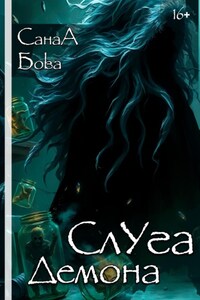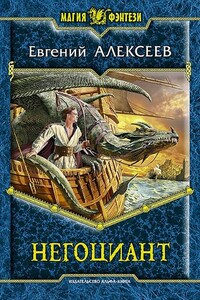ПРОЛОГ. Тот, кого забыли первым.
Иногда Йоре снилось, будто она никогда не была ни старой, ни женщиной, ни хранительницей вьюжных лет, а была лишь глухой стражницей на пороге чужого сна. Она смотрела, как к краю мира подходит тень – тонкая, длинная, с шагами из сухой прошлогодней травы, и знала, что за этой тенью будет новое имя для их дома, новое лицо для усталых стен, новая рана, затянутая поверх прежних. Иногда казалось: это её собственная память выходит из леса, чтобы снова стать чужой.
В ту весну, когда ещё существовали границы между временами года, и ночь пахла не сыростью, а талой водицей, в ту весну, когда речные льды ломались, как седые ногти у повитух, а облака были пепельными, в ту весну она увидела его. Имя тогда ничего не значило, но всё-таки его звали Адамом, так его назвала сама деревня, слишком уставшая от потерь, чтобы придумывать новые слова. В этот раз имя не было знаком, только отпечатком, стирающимся с ладони.
Он вошёл в деревню не в полдень, как приходят путники, и не в полночь, как бродят воры, а в промежутке между сном и явью, когда даже куры во дворах сидят тихо, а на печах спят ещё не проснувшиеся дети. Йора вспоминала, как воздух стал вязким, как сырое тесто, как по изгородям прокатился слабый ветер, будто кто-то тянул его за край. В том ветре была тоска, не похожая ни на голод, ни на одиночество, а на предчувствие долгого молчания.
Он пришёл один. За его спиной не было вьюка, только скатанная тряпица, похожая на саван, и чёрная, плоская коробка, перевязанная бечёвкой, как будто внутри лежала не вещь, а чья-то душа. Он не был ни молод, ни стар; его глаза были тёмные, как влага под корнями дуба, и в них отражался страх, знакомый тем, кто хоронит самое дорогое. Одежда чужая, не по сезону: длинная рубаха, похожая на монашескую, да пояс из обугленной верёвки. Он прошёл между домами, неся на плечах слёзы не своих женщин.
В ту ночь никто не посмел выйти ему навстречу, даже собаки не залаяли. Лишь у калитки стояла Йора, тогда ещё сильная и быстрая, с косой через плечо и тяжёлой, несломленной спиной. Она смотрела, как он ступает по мокрой земле, неуверенно, будто шаги отбирали у него часть тела.
– Кто ты? – спросила она, не сводя глаз с его рук.
Он не ответил.
– Здесь не любят немых, – бросила она, – и не ждут тех, кто приходит без имени.
Он поднял на неё взгляд – спокойный, в котором уже была и усталость, и смирение, и отчаяние, и гордость. Он прошёл мимо, не дотронувшись до неё ни словом, ни взглядом, только легонько склонив голову, словно принял чужое наказание за своё.
Позже, когда старейшины спросили Йору, что за человек пришёл на их землю, она только пожала плечами.
– Может, тот, кого забыли первым, – сказала она. – Или тот, кто помнит всех остальных.
Всю первую неделю он жил, как призрак. Селился на краю деревни, где за ветхой изгородью начинались заросли крапивы и старая часовня с обвалившейся крышей. Там, под скрипом ветра и шумом водяного жука, он ночевал, не зажигая ни свечи, ни костра. Йора заметила: к его дому никто не подходил, даже дети обходили его стороной, будто во дворе лежал не человек, а проклятие.
Но постепенно вокруг него стали собираться случайные прохожие – кто-то из молодых, кому не давали имени, старики, которые забывали своё, женщины, у которых уходили мужья. Они садились на мокрую траву и слушали, как он молча перебирает пальцами по грязи буквы, которых никто не знал. Иногда он писал палочкой на земле непонятные знаки, и Йора видела: в этих линиях есть ритм, которого нет ни в одной из их песен.
По вечерам, когда с холмов тянуло промозглой стылью, Адам открывал свою коробку и выкладывал из неё свитки, пахнущие пылью, чёрной солью и дымом. Он не читал их вслух, но иногда шептал слова, будто боялся, что они разобьются о воздух и исчезнут навсегда.