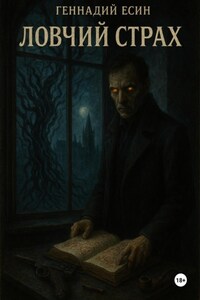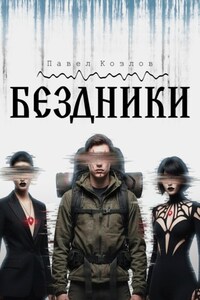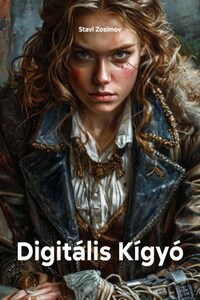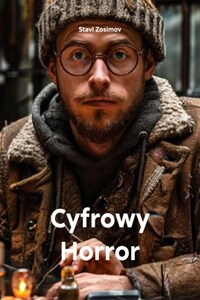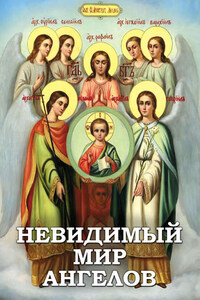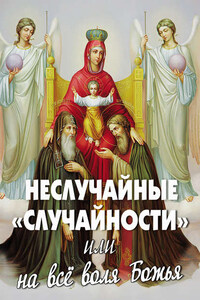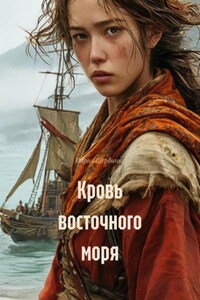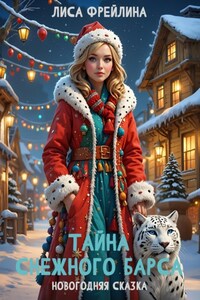Лето в маленьких советских городах всегда пахло одинаково – пылью, нагретым асфальтом и свежим хлебом из булочной, куда выстраивалась очередь ещё до открытия. Люди жили просто, почти счастливо. Женщины в ситцевых платьях торопились с сумками на рынок, мужчины в панамах возились в гаражах, а дети носились по дворам, будто времени у них было бесконечно и лето было совсем не из трёх месяцев, а целых двеннадцати. Утром из каждого окна доносилось бодрое «Слушайте Москву!», и казалось, что весь Союз дышит в унисон: стройки, колхозы, школы, лагеря – огромная страна, у которой нет и не могло быть никаких жутких тайн.
Город жил неторопливо, как будто боялся утерять это зыбкое счастье. Кинотеатр с немного облупленной вывеской показывал фильмы про героев войны и космос, по вечерам во дворе собирались подростки с гитарами, а в школе, перед каникулами, пахло свежей краской – готовили классы к новому году. Никто не думал о тьме или чём-то жутком. Даже слова «страх», «ужас» звучали там, где им и положено быть – в детских шутках, в немного юморных страшилках у костра или в играх во дворе.
Конечно же, слухи ходили. В любой городок, каким бы он ни был тихим, всегда заносило странные истории. То кто-то видел чёрную «Волгу» без номеров, которая якобы увозит зазевавшихся детей. То шептались о призраке старого завода, где когда-то погиб рабочий. То о мальчике, который исчез в лесу и больше не вернулся. Но все это оставалось где-то на задворках взрослой жизни. Взрослые смеялись: «Детские сказки!». Дети же слушали, замирая, и верили.
В этом и был парадокс: взрослый мир казался защищённым и прочным, как бетонные плиты новых домов, а детский мир – зыбким и хрупким, полным невыдуманных чудес и кошмаров. Но никто не придавал этому значения. Взрослые жили своими заботами, детьми – своими фантазиями. И казалось, что граница между ними нерушима.
А потом случилось лето, которое эту границу стерло. Лето, когда страшилки перестали быть шутками. Когда детские истории вошли в реальность и начали жить собственной жизнью. Лето 1970 года.
***
Мальчика Севу в этом городе знали немногие – разве что дворник дядя Паша, который любовался, как мальчик рисует на асфальте корабли, и библиотекарша тётя Галя, что выдавала ему «Науку и жизнь» и хмыкала: «Рановато тебе, Сева, изучать это. Но молодец!». Ему было двенадцать, и он уже умел не задавать лишних вопросов взрослым. И это было важнее, чем уметь свистеть через два пальца, или иметь кучу друзей, которых у Севы-то и не было. Он уже свыкся что многие его вопросы остаются без ответа. Что до его изысканий многим просто всё равно. Жил он, как полагается, – с родителями. В их хрущёвке на третьем этаже пахло всегда свежими щами и варёной картошкой; на подоконнике торчали кактусы, которые редко кто поливал; на стене висели лыжи, которые обещали вынести в кладовку, но не вынесли.
Отец работал электриком на хлебозаводе, приходил домой поздно и всегда приносил с собой запах тёплого теста и разную выпечку. Мать шила – сначала по заказам соседок, потом ей предложили ставку в ателье, и она согнулась над машинкой «Подольск», как будто разговаривала с ней шёпотом. Их жизнь протекла как и у всех. Иногда ссорились, иногда Сева мог что-то такое ляпнуть, отчего родители входили в ступор, по типу теории о "квантовой физике" или чём-то таком, что для них казалось слишком далёкой темой, и явно не для 12 летнего мальчика. К ним иногда приходила бабушка – маленькая, жёсткая, со взглядом, который видел то, чего другие, может быть, не замечали. Бабушка приносила с собой всегда слухи и, конечно же, вместе с пирожками. Про «волгу», про мальчика без головы, про женщину, что умерла в прошлом месяце выпив кваса из бочки. Сева любил эти истории. В них для него было что-то, что давало ощущение свежего глотка. На фоне серых будней. «Не слушай ты её, – говорила мать ему каждый раз когда бабушка уходила. – Тебе это ни к чему. Глупости это всё. Ты и так не от мира сего!». Бабушка пожимала плечами, а потом всё равно рассказывала – украдкой и тайком, пока родители были в другой комнате.