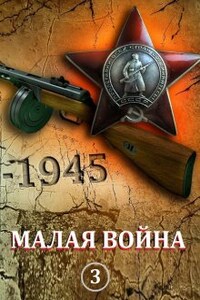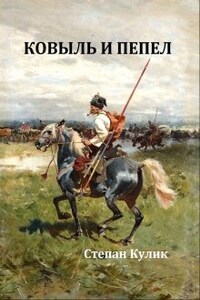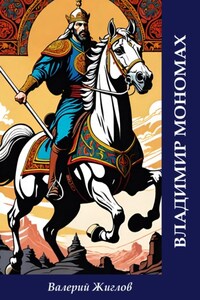«А мы с тобой брат из
пехоты,
А летом лучше, чем
зимой...
С войной покончили мы
счеты.
Бери шинель, пошли
домой…»
Б. Окуджава
Седой туман не спешил оставлять захваченные с ночи позиции,
продолжая клубиться в траншеях и ходах сообщений, смешиваясь с
дыханием дремлющих солдат и становясь от этого только гуще. Даже
сизый табачный дым, в сравнении с ним, казался легким и
прозрачным.
Отсыревшие шинели давили на плечи, как при полной выкладке… Не
столько согревая, сколько давая шанс не замерзнуть окончательно.
Одно радовало — накрыло не на марше. И не было нужды вытаскивать
пудовые сапоги из раскисшей, липкой глины. А вещмешок с нехитрыми
солдатскими пожитками, не мозолил спину, а позволял устроиться на
дне окопа хоть с каким-то удобством. И винтовка, что с каждым
пройденным километром становится тяжелее, как минимум на кило, не
висела на плече, а стояла прислоненная рядом.
Но, все эти невзгоды можно вытерпеть. Главное, пока туман не
развеется, вражеская артиллерия не будет стрелять. А без
артподготовки англичане в атаку не пойдут. Значит — еще какое-то
время никого не ранят и не убьют. Можно подремать, покурить,
написать домой о том, что приснилось или только что вспомнилось…
Прямо сейчас, не откладывая. Потому что на войне не у всех бывает
«потом». И солдат, дрожащих от холода в потемневших от влаги серых
шинелях, совсем не радовал близкий восход и теплые лучи солнца…
Потому что, вслед за ними в окопы вернется не счастливая жизнь, а —
безжалостная смерть…
Дверь землянки открылась и из нее выглянул штабс-фельдфебель
Отто Хейниц. От сырости у него ныли зубы, и это не придавало
благодушия его и без того лютому нраву. Штабс-фельдфебель огляделся
по притихшей траншее, выискивая взглядом вестового. Ефрейтор
Шикльгрубер, как всегда, держался отдельно. Он и сейчас дремал,
выбрав себе уютное местечко в запасной пулеметной ячейке и
пристроив под тощий зад не вещмешок, а пустой ящик от патронов.
— Адольф! — окликнул его Хейниц.
Ефрейтор вскочил не просыпаясь, даже глаз не открыл. Только
пышные кайзеровские усы встопорщились на худощавом, словно чуть
сплюснутом с боков лице.
— Я здесь!
— Пулей во вторую роту третьего батальона! Скажи обер-лейтенанту
Вайсбергу, что господин оберст хочет его видеть! Немедленно!
— Яволь!
Ефрейтор привычно метнулся по траншее налево, как делал не один
десяток раз до этого. Скорее всего, так окончательно и не
проснувшись. Неподалеку от городка Маркуен в провинции
Нор-Па-де-Кале их полк стоял уже второй месяц, и вестовой наизусть
знал маршрут до любого штабного блиндажа, включая ротные.
Днем, когда передовая простреливается, Адольф не стал бы
рисковать, но сейчас, в такой туман, петлять ходами сообщений,
спотыкаясь о ноги дремлющих солдат, не было смысла. Ефрейтор
выпрыгнул из траншеи и рванул наискосок, прямо через поле
неубранного ячменя… почерневшего, поникшего к земле полупустыми, но
по-прежнему усатыми колосьями. Если и обмолотят их осенью
восемнадцатого года, то только минами и снарядами… на которые
войска Антанты не скупятся.
В траншею Шикльгрубер спрыгнул почти у самого штабного блиндажа,
откозырял часовому и постучал в дверь. Внутри сперва кто-то
испуганно пискнул, а потом мужской бас недовольно прорычал:
— Кого черт принес в такую рань?
Обер-лейтенант, двадцатипятилетний двухметровый, рыжий верзила
пользовался успехом у санитарок и не отказывал себе в
непритязательных удовольствиях. Воевал не первый год. Прекрасно
знал, что в такую погоду о вражеском наступлении можно не
беспокоиться. И что начальство не стучится прежде чем войти —
тоже.
— Виноват… — ефрейтор не стал открывать дверь. Доложил так,
глядя на неплотно пригнанные доски. — Господин оберст… просит вас
незамедлительно прибыть на командный пункт.