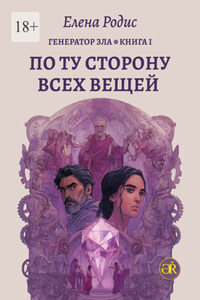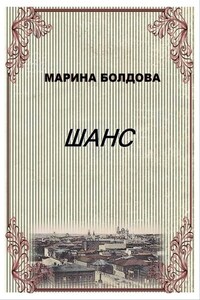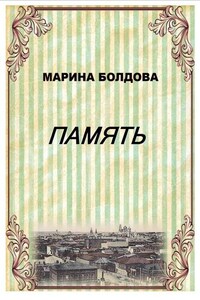Песок хрустел на зубах, как битое стекло. «Фобос», наш верный трудяга-биплан, лежал теперь на дне Тихого океана где-то за стеной джунглей, оставив нам в наследство лишь несколько ящиков с оборудованием и аптечку, выброшенных волнами на этот жёлтый песок, да троих выживших: меня, Евгения, бывшего бортинженера, и двух учёных – молодую, привлекательную, но вечно сосредоточенную Ирину и её руководителя, Максима Сергеевича. Мужчина был на двадцать лет старше нас, и его пронзительный, цепкий взгляд выдавал упрямство, доходившее до одержимости. Эту одержимость я чувствовал ещё до крушения – всё путешествие он проводил у иллюминатора, вглядываясь в бескрайнюю воду с лицом Колумба, близкого к великому открытию. Иногда он бормотал себе под нос что-то про «магнитные бури отца» и «предназначение всей его жизни».
Первые два дня прошли в суете, заглушавшей ужас. Мы собирали дождевую воду в растянутый тент, сбивали палками спелые кокосы. Я, пользуясь навыками, добытыми не в кабинетах, а в гаражах и полевых походах, соорудил навес из обломков обшивки и лиан. Нашёл в кармане непромокаемые спички и развёл костёр, который мы берегли как зеницу ока. Мы ещё строили робкие планы по строительству плота, всматривались в горизонт, но в наших глазах уже читалось не только отчаяние, но и азарт. Мы не просто разбились. Мы нашли его. Тот самый остров, который искали вслепую, ориентируясь на старые, почти истлевшие отчёты и аномальные магнитные бури. Остров, которого нет ни на одной карте. Для Максима Сергеевича это был триумф, кульминация всей жизни – поиски, которые начинал ещё его отец и за которые самого Максима годами высмеивали в научном сообществе. Ирина, его верная сподвижница, сначала тоже относилась к его теориям со скепсисом, пока лично не изучила архивные заметки его отца. С тех пор её холодный, аналитический ум был полностью захвачен загадкой. Казалось, кроме науки, для неё ничего и не существовало; эта экспедиция была для неё единственным известным способом жизни, лекарством от призрака бессмысленности, который преследовал её с детства.
Вечером второго дня мы сидели у костра, делили скудный ужин – немного фруктов и краб, которого мне удалось поймать. Молчание затянулось, и я, чтобы разрядить обстановку, спросил первое, что пришло в голову.
– Ирина, а зачем вам всё это? Ну, в глобальном смысле. Максим Сергеевич – я понимаю, отец, дело жизни. А вы?
Она не ответила сразу, доедая свою порцию.
– Чтобы самой увидеть, что он существует, – наконец сказала она, глядя на огонь, а не на меня. Её голос потерял привычную научную строгость. – Чтобы доказать самой себе, что самые безумные идеи имеют право на существование. Что границы мира не ограничиваются учебниками.
– Романтично, – не удержался я от улыбки.
– Прагматично, – парировала она, но уголок её рта дрогнул. – Если не пытаться заглянуть за границу известного, мы так и останемся обезьянами у костра, которые боятся тени от деревьев. Только вот… – она запнулась, впервые за всё время показав неуверенность.
– Только что?
– Только я не ожидала, что граница окажется настолько близко, – она посмотрела на меня, и в её глазах мелькнуло что-то живое.
Я хотел пошутить, сказать что-то вроде: «Зато виды что надо», – но передумал. В её словах была тоска, которую я иногда ловил и в её взгляде.
Максим Сергеевич сидел чуть поодаль, чистя очки краем рубашки. Казалось, он не слушал наш разговор, но после паузы его голос прозвучал неожиданно тихо и без привычной стальной уверенности:
– Знаете, я ведь тоже не сразу поверил. Мой отец… под конец жизни он был нездоров. Говорил сам с собой, чертил на стенах безумные схемы. Для академических кругов он стал посмешищем, запятнал нашу фамилию до ассоциации с бредом. Мне пришлось оставить свою карьеру в материаловедении, чтобы ухаживать за ним. Я тогда его ненавидел всей душой. Мы и до того не были близки – работа была у него на первом месте. А в те последние годы… – он замолчал, с силой втирая пятно на стекле. – Но странная вещь. Когда ты день за днём кормишь с ложечки того, кто был для тебя полубогом и тираном, ненависть куда-то уходит. Остаётся только жалость и какое-то щемящее понимание. Он умирал, твердя об этом острове. И я понял, что не могу позволить ему уйти вот так, опозоренным сумасшедшим. Его наследие – это всё, что у меня от него осталось. И моё тоже, – он резко надел очки, и его взгляд снова стал острым и непроницаемым. Разговор был окончен.