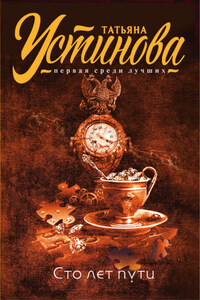Девятая Матерь говорит, что мерцальню наполняет музыкой и золотом стена. Но я-то знаю, что это делает кое-кто по ту сторону.
Знаю, что это мальчик.
Мальчик, которого при рождении завернули в нотные свитки вместо пелёнок. Мальчик с короной из колокольчиков на голове. Позади него море бушует хором брызг, поднимая каменную флейту к его губам. Вдыхающий в песни жизнь.
Девятая Матерь говорит, что я не отличу крылышко сверкача от падающего пёрышка, но одно я знаю наверняка: для музыки требуется горло. Лёгкие и влага, плоть и кровь.
«Молчи, Дельферния. Не надо».
Опускаюсь на корточки, прижимая ухо к влажному камню. Там ничего, кроме тишины, которую могут создавать лишь стены. Мёртвой тишины: таким представляется звук под землёй, а не снаружи. Даже море угомонилось, будто в ожидании чьей-то исповеди.
Знаю: не стена вплетает в воздух ноты, словно кричащая птица… Я знаю, знаю, знаю. Потому что, пробившись сквозь твёрдое молчание безжизненной стены, слышу шаги, хруст костяшек. Кто-то щёлкает языком и прочищает горло. Я знаю: он там… Знаю. Море с рёвом устремляется вперёд, и солёные брызги просачиваются в освещённые звёздами щели.
Вздрагиваю, отпрыгивая назад.
Всю жизнь мне твердят, что море окружает купол обители, совсем как ночь обволакивает луну.
И что оно проглатывает девочек вроде меня.
«Молчи».
Дверь в мерцальню открывается подобно кашлю, и те, другие, проходят внутрь. Босые ноги шаркают по мшистой земле. Они выстраиваются в очередь, а я петляю между ними мимо устремлённых прямо перед собой взглядов, чтобы занять место в конце, в самом последнем ряду.
Грохочущий лязг шагов Девятой Матери звенит под ногами. Другие склоняют головы. Проглатываю все свои секреты поглубже, но те всё равно бурлят в желудке, словно испортившаяся похлёбка. Подступают к горлу, чтобы вырваться наружу.
Вот она – закутанная в тусклые шелка, рукава расшиты перьями обителькрылов в дань уважения Первой Матери. Устраивает целое представление из молитвы, ударяет обломком умолкамня по стене, пока тот не издаёт звук «шшшшш» и не вспыхивает огнём.
Затем призывает музыку (исполняемую мальчиком, который там, снаружи, я это знаю) единственным холодно произнесённым словом:
– Вдохни.
За пределами обители звенят колокола Пагубагона.
И мальчик за стеной начинает играть.
Те другие поднимают головы. Затем Девятая Матерь произносит моё имя, и я понимаю: пора. Пора потерпеть неудачу в превращении музыки в золото.
Создание мерцания – так это называет Девятая Матерь, ведь таков её подковыристый язык: ей нравится выворачивать слова до тех пор, пока они окончательно не утратят первоначальный смысл.
Только подойдя так близко, что почти касаюсь стены губами, останавливаюсь. Девятая Матерь держит зеркало из полированного золота. В отражении появляется моё лицо: тёмные глаза, смуглая кожа. Волосы скручены в пучок на затылке, чёрные кудри противятся, не желая быть забранными. Воображаю, что синяк под глазом – всего-навсего тень, отбрасываемая обителькрылом; представляю, как она обвивает голову, словно тёмная диадема.
Бормочу молитву, которую мы произносим с тех пор, как научились говорить:
– Позволь забыть, что имею глаза. Позволь забыть, что я – это я.
– Продолжай, – говорит Девятая Матерь, опуская зеркало.
Я знаю, чего от меня ждут, не потому, что у меня это когда-нибудь получалось, а потому, что наблюдала за теми другими множество раз (за девочками из моего класса).
Возможно, дело в том, что у меня певчее горло – «Молчи, Дельферния, не вздумай рассказать», – или, возможно, в том, что я родилась неправильной, но у меня не получается создавать мерцание так, как это делают они.
Создавая мерцание, те другие стоят перед стеной с открытыми ладонями, музыка струится сквозь их кости. Ноты посверкивают на спинах отполированными до блеска нитями. Те другие оборачиваются посмотреть на струны из света, вытягивая музыку из воздуха, позволяя ей весомо опуститься в ладони. Валяют каждый кусочек, пока не превратят его в узловатый комок золота. После чего Девятая Матерь хлопает (скорее предостерегающе, нежели одобрительно), и мы читаем очередную молитву Первой Матери: