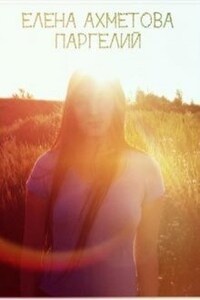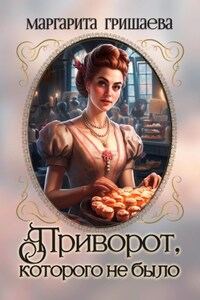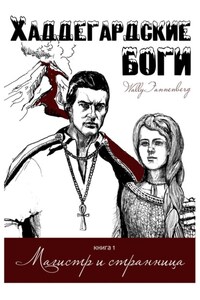Бой барабанов отдается вибрацией в
костях и выходит на поверхность – дрожью, шагами и волнами; тело
изгибается, будто змеиное, застывает, как перед броском – и снова
растворяется в движении. Дыхание сбивается, воздух раскален и
наэлектризован так, что на кончиках пальцев в такт мелодии
потрескивают синеватые разряды.
Барабанщики напряженно следят за
каждым движением ритуального танца. Здесь не они задают темп; их
задача – отбить ритм, который слышу только я.
Мои сестры, с демонстративным
смирением опустив головы, сидят в ряд у подножия алтаря. Их лиц не
видно, как и моего, – слишком ярка за нашими спинами парселена,
слишком неверны рыжие отблески факелов и свечей. В их свете,
кажется, танцуют вместе со мной и колонны Храма, и мраморные
статуи, и тени в темных углах. Ночь теснится, забивается в
коридоры, бежит от ликующей музыки и воодушевленного рева прихожан,
но до рассвета еще далеко.
Чувствуя, что плавная дрожь бедер
переходит в ужасно неграциозную мышечную трясучку, я замираю на
середине движения, и следующая в ряду жрица мигом вскакивает на
ноги, в точности скопировав мою позу, и включается в танец,
виртуозно попав в непрерывающийся ритм. Я опускаюсь на колени,
судорожно хватая ртом воздух и изо всех сил стараясь казаться
таинственной и невозмутимой. Жрица не может запыхаться даже под
традиционной тканевой маской, плотно облегающей нижнюю половину
лица, даже в самую жаркую ночь года, даже после получасового
ритуального соло под бешеный барабанный бой. Не потому, что ее
сознания касался божественный свет, и не потому, что ее тело
пожертвовано Храму, – а потому, что Верховная ну очень печется о
корпоративном стиле.
Ей важно, чтобы в ночь Пепла
горожане смотрели на нас горящими глазами, разинув рты и молясь о
благодати, которую мы им никогда не подарим; и ей плевать, что уже
завтра все эти восторженные лица снова будут бояться и ненавидеть
нас. Ей нужно, чтобы к их страху подмешалась капелька
потустороннего ужаса перед посланницами Равновесия, – а значит, ни
одна из нас не должна задыхаться в танце и уж тем более не
грохаться на скользкие мраморные плиты, покрытые вулканическим
пеплом.
А что снизу к босым ножкам жриц
прилеплены силиконовые стельки, восхищенным зрителям знать вовсе не
обязательно.
Повосторгаются и так.
Этот посетитель пришел в Храм не
впервые; по крайней мере, он сразу задернул за собой тканевый полог
и, не раздумывая, первым делом направился к сосуду для
пожертвований и только потом – ко мне: видимо, знал, что я так или
иначе отправлю его по этому маршруту, прежде чем выслушаю.
Разговорами он, впрочем, тоже не
особо утруждался. Вместо прочувствованной мольбы или худо-бедно
выжатой исповеди на чашу ритуальных весов с хлюпом приземлился
здоровенный шмат мяса, щедро обрызгавший кровью алтарь и самого
посетителя. Если б попало еще и на меня, объясняться ему все же
пришлось бы, а так – он молча хлопнул на вторую чашу правую руку и
выжидательно уставился на перекладину. Давить, выравнивая весы, не
пытался. В народе искренне верили, что Равновесие должно принять
решение само, а любое жульничество приведет к отказу в просьбе.
Верховная, понятное дело, пользовалась этим суеверием вовсю, что,
однако, не помешало приладить к весам исполнительный механизм, не
позволяющий выровнять чаши давлением на одну из них.
– Лицо, – спокойно напомнила я.
Мужик злобно сверкнул глазами, но
все же содрал с себя старую тканевую маску. Процедура затянулась,
но убирать с весов правую руку он суеверно не рисковал.
Открывшаяся взгляду
красновато-желтушная физиономия была до того бандитской, что я с
трудом удержалась от вопроса, точно ли принесенная им печень –
свиная. Интерес подогревала и подозрительно топорщившаяся на боку
потрепанная куртка, и чрезмерно широкие голенища сапог: в таких
очень удобно прятать метательные ножи… но, в конце концов, какое
мне дело? Настоящий кальдерец со Дна никогда не заявится в
Храм.