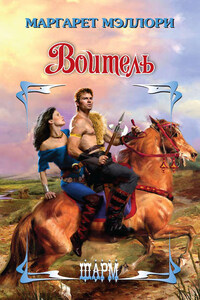Темнота – густая, как кровь, как пепел после пожара, и в этой тьме голоса, не настоящие, а те, что застряли между воспоминанием и кошмаром: «Скальпель… зажим… срочно дефибрилятор!» – команды, врезавшиеся в сознание, как шрамы, как эхо из Афганистана, где каждый день был битвой не на жизнь, а на смерть. Крис Уэйланд резко сел на кровати, хватаясь за грудь, будто сердце вот-вот вырвется наружу, дыхание – тяжёлое, с хрипом, как у раненого зверя, простыня – пропитана потом, а пальцы всё ещё дрожат от воспоминаний о скальпеле, о крови на перчатках, о криках, которые он так и не смог заглушить.
Милиса: Крис…
Её прикосновение было тёплым, как первое утро после зимы, как луч света, пробивающийся сквозь тучи. Он повернул к ней лицо, и в полумраке, освещённом слабым светом уличного фонаря, просачивающимся сквозь шторы, она выглядела как живое воплощение покоя – тёмные волосы, рассыпанные по подушке, будто тень ночи, глаза – тёплые, карие, с искорками, как угли в камине, губы, чуть приоткрытые, будто готовые прошептать что-то, что вернёт его из прошлого.
Крис: Это был сон… Опять Афганистан.
Милиса: Я знаю. Но ты здесь. Ты дома.
Дом. Слово, которое он долго не мог понять. Для него домом был полевой госпиталь, палатка из брезента, где пахло кровью, йодом и страхом, домом была армейская койка, на которой он засыпал с мыслью: «Сегодня я кого-то потерял». Но теперь дом – это стены из светлого камня, сад с розами, которые Милиса ухаживала каждое утро, и детский смех, раздающийся из окон, как музыка, как доказательство того, что жизнь может быть прекрасной.
Крис: Я не должен был оставлять его… Того парня. Марка. Ему было двадцать один. Он смотрел на меня и говорил: «Доктор, я не хочу умирать». А я… я просто не успел.
Милиса: Ты спас сотни, Крис. Ты не бог, чтобы спасти всех.
Крис: Но я хирург. Я должен был…
Милиса: Ты сделал всё, что мог. И сейчас ты здесь. С нами.
Он прижался лбом к её шее, вдыхая запах – ваниль, лаванда и что-то ещё, что невозможно описать словами. Запах дома. Запах жизни. Через несколько минут дыхание выровнялось, и он почувствовал, как внутри, хоть на мгновение, стало легче.
Крис: Я люблю тебя.
Милиса: Я тоже. И Элис тоже любит тебя.
При упоминании дочери внутри что-то сжалось – не от боли, а от нежности, такой острой, что почти больно. Элис – их маленькая вселенная, четыре года, но уже с характером, вчера она нарисовала их семью мелками на асфальте: дом с трубой, солнце с улыбкой, три фигурки с большими глазами. «Папа, это ты. Ты самый сильный», – сказала она, указывая на самого высокого. Он улыбнулся.
Крис: Завтра пойдём в парк?
Милиса: Да. И купим мороженое.
Крис: Только ванильное.
Милиса: Только ванильное.
Крис: Ты знаешь, что я люблю тебя больше всего на свете?
Милиса: Знаю. И я вас люблю.
И в этот момент, в тишине их спальни, с тёплым светом и дыханием любимой женщины рядом, он почувствовал, что, может быть, всё-таки сможет жить дальше.
Два года. Всего два года прошло с тех пор, как он вернулся из Афганистана, оставил за спиной хирургию в пыльных палатках, кровь на песке, крики и запах гари. Он вернулся в Великобританию – не как герой, а как человек, сломленный, но ещё способный дышать. Милиса ждала его. Она не сдавалась, когда он месяцами не отвечал на звонки, когда пропадал в пабах, когда пытался утопить воспоминания в виски. Она просто ждала. И когда он, наконец, вернулся к себе, она взяла его за руку и сказала: «Теперь мы строим новую жизнь».
Они нашли дом – не просто дом, а мечту. Старинный коттедж в пригороде Лестера, с камином, садом, окнами, выходящими на холмы. Деревья, птицы, тишина. Дом, в котором каждый закат казался картиной, каждый рассвет – обещанием. Он устроился хирургом в частную клинику «Медикор» – высокий уровень, новейшее оборудование, уважение. Он снова держал скальпель, но теперь – в стерильной операционной, под ярким светом, без пыли и криков. Он спасал людей. Но внутри оставалась пустота.