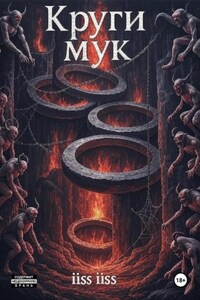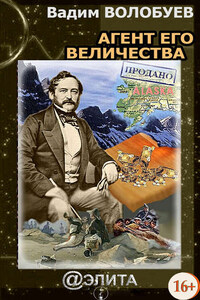Солнце стояло в зените, и Переяславль дремал в его жарких объятиях, точно сытый кот. Воздух дрожал над крытыми соломой крышами, пах пылью, нагретым деревом и ленивой рекой Трубеж. Для Мирослава этот полдень пах еще и глиной – влажной, податливой, живой. Его ладони, покрытые серой коркой, уверенно обнимали бесформенный ком на гончарном круге. Под его пальцами глина пела, вытягивалась, обретая изгибы будущего кувшина.
Жар от горна, стоявшего в углу навеса, дышал ему в спину, смешиваясь с полуденным зноем. Этот жар был его стихией, его другом и его мучителем.
– Опять бокам недодал, – раздался за спиной скрипучий голос Устина, старого мастера. – Пузатый сделаешь, а как воды нальют – развалится. Форма должна силе служить, а не красоте одной. Запомни, парень.
Мирослав не обернулся, лишь замедлил вращение круга.
– Я помню, учитель. Я хочу, чтобы он был и крепок, и ладен. Чтобы рука сама к нему тянулась.
Устин крякнул, подошел ближе. Его тень упала на круг, принеся короткое облегчение. Старик был сух и жилист, как старый корень дуба. Он взял почти готовый кувшин в свои узловатые пальцы, огладил его, словно живое существо.
– Глина тебя слушает, парень. Это дар. Не каждому дано мертвое в живое обращать. Но ты всё о своём клейме мечтаешь… Сначала руку набей так, чтобы без клейма твою работу узнавали. Вот тогда и будешь мастером.
– Я не о славе думаю, Устин, – тихо ответил Мирослав, смачивая руки в лохани с водой. – А о том, чтобы свое дело иметь. Свой горн. Свой навес. Чтобы знать – вот это всё моё. От земли до дыма.
– Своё… – Устин хмыкнул, возвращая сосуд на круг. – Своё – это мозоли на руках да больная спина к старости. Всё остальное – от богов да от князя. Сегодня есть, а завтра пришли гости незванные – и нет у тебя ничего.
Разговор прервал звук, который заставлял сердце Мирослава биться чаще, чем удары по наковальне в княжеской кузне. Совсем рядом, на вытоптанном плацу у стен детинца, лязгнула сталь. Там княжеская дружина проводила учения.
Мирослав поднял голову. Сквозь щели в частоколе, отделявшем ремесленный посад от княжьего двора, виднелись мелькающие фигуры. Мужские голоса, грубые выкрики и один – звонкий, девичий, отдававший приказы.
– Зоряна опять мужиков гоняет, – усмехнулся Устин, заметив,куда смотрит его ученик. – Девке бы за прялку, а она меч из рук не выпускает. Не наше это дело, Мирослав. Наше дело – горшки. Воины пусть воюют, мы – кормить да поить будем. Из нашей посуды. Крути.
Но Мирослав уже не мог. Он поднялся, вытер руки о холщовые порты и подошел к частоколу. Пальцы сами нашли знакомую щель в дереве.
Там, под палящим солнцем, стояла она. Зоряна.
Её русая коса, толстая, как канат, была перехвачена кожаным ремнем и металась по спине при каждом движении. Рубаха из грубого льна промокла и липла к широким плечам и крепкой спине. Она не была похожа на других девушек посада – мягких, смешливых, с плавными движениями. Зоряна двигалась иначе. Резко, точно и смертоносно.
Она работала в паре с Боримиром, здоровенным дружинником, который был на голову её выше и вдвое шире в плечах. Их мечи пели. Неистовый танец стали, выпады, уклонения, финты. Боримир давил силой, его удары были подобны ударам молота. Но Зоряна была быстрее. Она уходила с линии атаки, словно речная вода, обтекающая валун, и тут же жалила в ответ. Её лицо было сосредоточенным, нахмуренные брови, плотно сжатые губы. Капельки пота блестели на висках и над верхней губой.
Мирослав смотрел, не дыша. Он, человек, чьи руки привыкли к покорной и мягкой глине, не мог постичь, как её ладони, наверняка покрытые мозолями, могут так крепко держать рукоять меча. В его ночных грезах, от которых поутру становилось стыдно и жарко, он представлял эти руки. Сильные, уверенные. Что, если бы они коснулись не стали, а его плеча? Или прошлись бы по глиняному боку его лучшего кувшина?