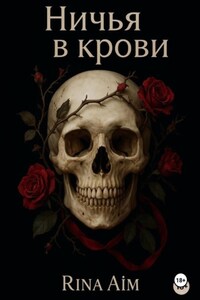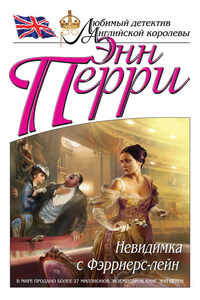Посвящается моему дедушке – тому, кто знал, что даже в самой тёмной чащобе горит огонёк
Глава первая:
Тьма в ноябре наступает рано, будто кто-то спешит захлопнуть над миром черную крышку. Еще в четыре часа дня, когда мы высыпали из школы, небо было свинцовым, а сейчас, без двадцати шесть, оно почернело окончательно, и только фонари отбрасывали на снег жидкие, дрожащие круги света.
Я стоял на пустом перекрестке и смотрел на красного человечка на светофоре. Машин не было ни одной – в нашем поселке они были редкостью, особенно зимой, – но правило есть правило. Мама всегда говорила: «Сережа, правила созданы, чтобы их соблюдать, даже если никто не видит». Я и соблюдал. Меня зовут Сережа.
Красный человечек сменился зеленым, и я шагнул с обочины. И сразу же поскользнулся. Ноги сами поехали вперед, я отчаянно замахал руками, пытаясь поймать равновесие, но мир опрокинулся, и с глухим, костяным стуком я грохнулся лицом о припорошенный снегом бордюр.
Боль пришла не сразу. Сначала была лишь оглушительная пустота и звон в ушах. Потом, будто раскаленный гвоздь, в мозг вонзилась боль. Она разлилась из носа горячей волной, заполнила глаза слезами. Я застонал, пытаясь подняться на локти. Из носа на белый снег капнула, а потом хлынула темная, почти черная в этом свете кровь. Паника, острая и тошнотворная, сжала горло. Я сорвал с головы шапку, прижал ее к лицу, чувствуя, как шерсть мгновенно пропитывается теплой и липкой влагой.
«Дома, надо просто добраться до дома», – твердил я себе, поднимаясь на дрожащих ногах. Дом. Он был за лесом. Сквозь Чащобу.
Чащоба – так все называли этот старый, непролазный в некоторых местах лес. Дорога через него была короче, чем в объезд, на целых двадцать минут. Двадцать минут темноты, скрипа веток и собственной паники. Но идти было нечего – я промерз до костей, а кровь не желала останавливаться.
Я побежал, спотыкаясь о невидимые под снегом корни. Слезы замерзали на щеках, смешиваясь с кровью на губах, соленой и железной. Один раз я упал снова, порвал на колене штанину и почувствовал, как холод тут же впился в обнажившуюся кожу. Отчаяние подкатило к горлу комом. Я почти рыдал, прижимая окровавленную шапку к лицу и бежал, бежал сквозь черные стволы, похожие на ребра какого-то гигантского мертвого зверя.
И вот тогда, сквозь собственное тяжелое дыхание и свист ветра, я услышал это.
*Дзын-дзын…*
Я замер, затаив дыхание. Стояла почти полная тишина, нарушаемая лишь шелестом падающего снега. И снова – тихий, звенящий, как крошечный хрустальный колокольчик, звук. Он доносился откуда-то справа, из самой гущи деревьев.
Надежда, острая и неосознанная, толкнула меня вперед. А что, если это кто-то из взрослых? Может, грибники? Зимой? Неважно. Я пошел на звук, протискиваясь между еловых лап, которые осыпали меня снежной пылью.
Сквозь частокол стволов начали пробиваться огоньки. Не яркие, а приглушенные, разноцветные. Как гирлянды. А музыка… она стала слышнее. Веселая, немного дребезжащая, как из старой шарманки. Такая музыка должна была звучать на празднике, на новогоднем утреннике, а не здесь, в ночном зимнем лесу.
Я вышел на полянку и от изумления выпустил из рук окровавленную шапку.
Поляна была небольшая, круглая, будто специально расчищенная. Между ветвями окружавших ее елок были развешаны те самые гирлянды – лампочки-сосульки, мигающие желтым, красным и зеленым светом. В центре, взявшись за руки, стояли три человека. Они только что водили хоровод – следы на снегу были свежие, – но теперь замерли, уставившись на меня.
Одеты они были странно и совсем не по погоде – в простые, тонкие балахоны белого цвета, похожие на простыни. А на головах у них были не маски, а обычные бумажные пакеты из-под сахара, с прорезанными дырами для глаз и рта. И на этих пакетах были нарисованы лица.