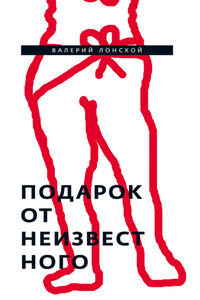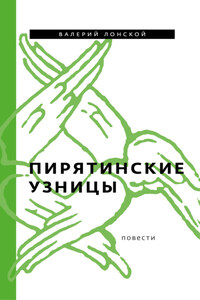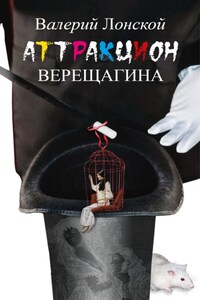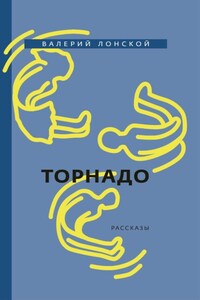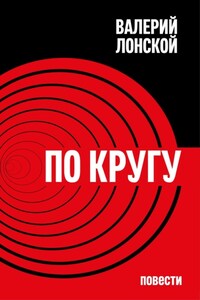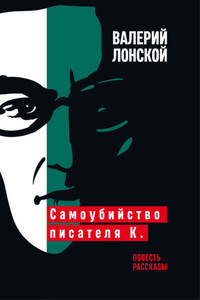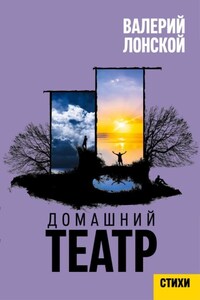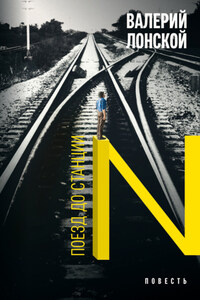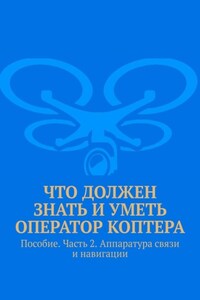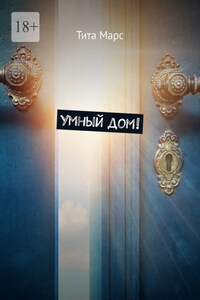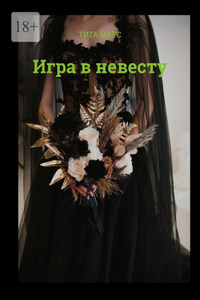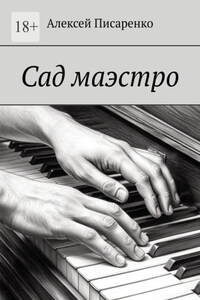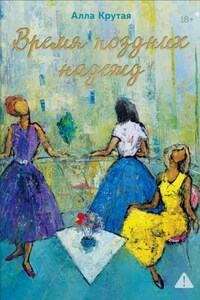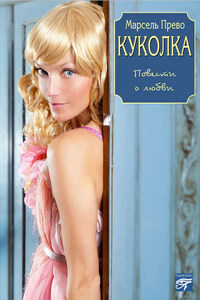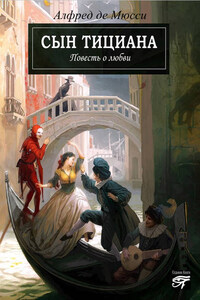«…Но что страннее, что непонятнее всего, – это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы…
…А всё, однакоже, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают».
Н. Гоголь «Нос»
[1]
Когда пароход идет ко дну, что испытывает пассажир, не успевший покинуть каюту и выбраться на палубу? О чем он думает? Как встречает смерть? Эта мысль неоднократно возникала в голове Воскобойникова. И не только в минуты отчаяния, когда его чувства, как ему казалось, были схожи с чувствами того самого пассажира, облик которого неясно маячил в сознании. Это случалось и в благостные минуты, когда ничто не омрачало его настроения и думалось о чем-то весьма приятном: о встрече с желанной женщиной, к примеру, или об изысканной еде, которую ему предстояло вкусить на званом ужине, или о благоприятном завершении какого-либо важного дела, которое поначалу не обещало успеха. Мысль о пассажире, идущем ко дну вместе с пароходом, которому предстоят последние мучительные минуты, возникала в самые разные моменты жизни, и он не мог себе ответить, что же служит толчком для ее появления. Он вдруг вспоминал без всякого повода об этом неизвестном ему пассажире, который мог оказаться в минуты катастрофы на пароме в водах Балтийского моря, или на пароходе «Адмирал Нахимов», затонувшем под Новороссийском, или где-либо еще… И, в зависимости от своего состояния, Воскобойников либо мучился, остро воспринимая участь несчастного, либо, когда находился в хорошем расположении духа, думал о нем и его страданиях отстраненно, как о театральном персонаже, чья смерть волнует гипотетически, поскольку является выдумкой автора пьесы.
Воскобойников ни с кем из тех, кому доверял, не делился своими думами на эту тему, не рассказывал о том, что мысль о драме неведомого ему пассажира нет-нет да будоражит его, являясь в сознании с неясной целью. Объяснить собеседнику это было бы трудно.
Шли годы. Он окончил институт. Женился. Женился по нашему времени поздно – в двадцать семь. Женой его стала хваткая, уверенная в себе, эффектная блондинка по имени Таня, носившая непривычную для русского уха фамилию – Шультайс. Видимо, имелись у нее, москвички, в роду прибалтийские предки, от которых и досталась ей в наследство эта фамилия. То ли предки эти дошли до русских поселений и там осели, то ли русские бабы добрались до их литовских сел и хуторов, и уж дети этих баб – по своей ли воле, или по воле обстоятельств – двинулись в обратном направлении. Влюбленному Воскобойникову казалось, что шелестит легкий ветерок в траве, когда произносили вслух фамилию жены: Шультайссс… Жена оказалась особой весьма деятельной. Ни минуты не могла посидеть праздно. То суетилась на кухне, что-то там резала, жарила, варила, перемещаясь в кухонном пространстве с ловкостью балерины, успевая при этом еще говорить по мобильному телефону; то затевала стирку и ходила с видом ищейки по комнатам, соображая, что бы еще такое засунуть в пасть стиральной машины (однажды она единым махом стянула с Воскобойникова, лежавшего на диване, джинсы; тот и охнуть не успел, как они уже крутились в металлическом чреве прожорливого «монстра»); то бросалась наводить порядок в комнатах, убирая вещи Воскобойникова в отдаленные места, протирая мебель влажной тряпкой, перевешивая на свой лад (в зависимости от настроения) фотографии и картинки на стенах, перекладывая книги на полках и милые безделушки, осевшие в разных углах.