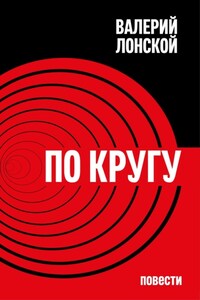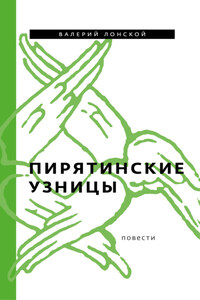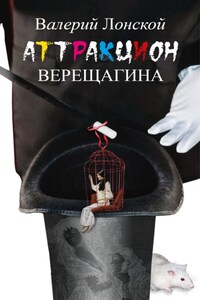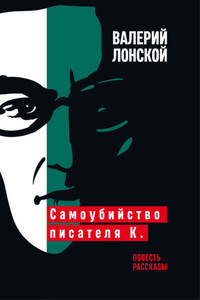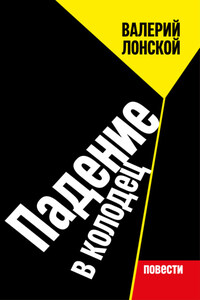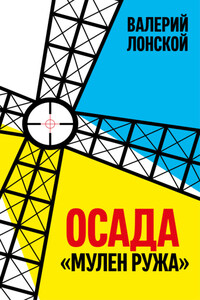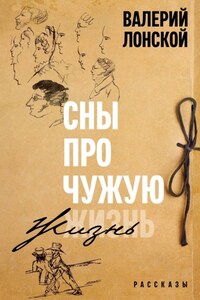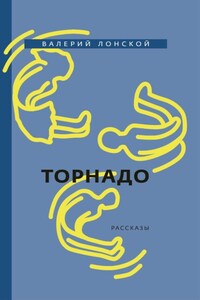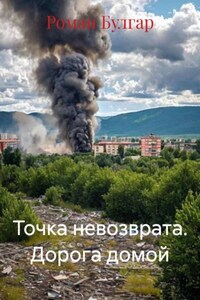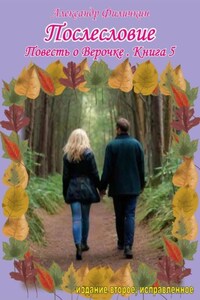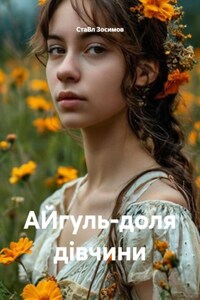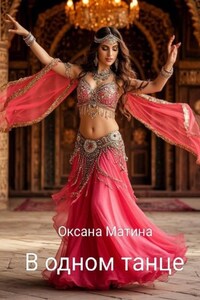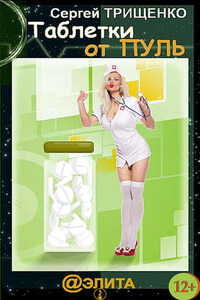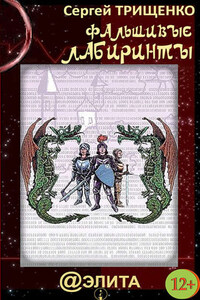Это был старый московский дом, в три этажа, с одним подъездом, построенный в начале двадцатого века. Купец первой гильдии Иван Ерофеев, человек обстоятельный и преуспевающий, строил его с целью сдавать комнаты внаем состоятельным мещанам и иной публике, у которой имелись деньги заплатить за жилье.
В восемнадцатом году, в самом конце его, Ерофеев уехал за границу (большевики говорили: сбежал), а дом, как водится, захватили безродные пролетарии, кичившиеся тем, что, с оружием в руках, боролись против буржуев в октябре семнадцатого за счастье трудового народа. Часть жителей дома из числа малоимущих новые власти не тронули, оставили жить на прежнем месте, ну а жильцов побогаче уплотнили или выбросили вон. Нечего! Попили нашей пролетарской кровушки, и будет! Освободившиеся комнаты заняли новые люди.
Ко времени, о котором пойдет наш рассказ, население дома сложилось окончательно. Жильцы давно обустроились, хорошо узнали друг друга. Некоторые похаживали к соседям в гости, пили вместе водку «рыковку», после чего пели популярные песни нового времени о Каховке, о паровозе, который летит вперед, а после выхода на экраны фильма «Веселые ребята» с участием Леонида Утесова пели «Сердце, тебе не хочется покоя!» На общих кухнях потные от трудов хозяйки, занимавшиеся приготовлением еды на керосинках, ворчали по поводу роста цен в магазинах, поругивали местную власть за плохую работу городского транспорта («Вечно трамваи переполнены и конца этому не видно!») и недостаток хороших больниц («Попал на больничную койку, считай, пропало!»).
При Ерофееве в подъезде была идеальная чистота, которую поддерживали нанятые им две уборщицы; за двадцать лет после его отъезда состояние лестниц в доме основательно ухудшилось. И, несмотря на то, что их время от времени мыли, все же было грязно. Случалось, кто-то мочился по пьяному делу в углах (что свойственно отдельным малоразвитым натурам из пролетарской среды), но ни разу за этим занятием никого не поймали. Или не хотели поймать. И в подъезде устойчиво пахло мочой. Но жильцы дома к этому как-то попривыкли и уже не обращали внимания на неприятный запах, будто так оно и должно было быть.
Надписей и рисунков на стенах не было (это вошло в городской обиход гораздо позднее): юные граждане Страны Советов еще только осваивали грамотность и как-то стеснялись выражать свои мысли на стенах. Только внизу у лестницы, что вела в подвал, где жила семья дворника-татарина, были начертаны на штукатурке три слова карандашом: «Маша мыла раму». Это сделал сын дворника – Ришат, за что и получил от отца подзатыльник. Но надпись так и осталась, где была.
В период летних проливных дождей мимо дома всякий раз текли бурные водные потоки, выплескиваясь мутными волнами на тротуар, окатывая ноги прохожих и животы дворовых собак, – водостоки не справлялись с количеством обрушеной на город воды. Лишь некоторое время спустя после окончания дождя вода уходила с улицы, оставляя на асфальте разводы грязи и мелкий мусор.
Василий Мартьянович Орлухо-Майский, высокий рыхлый мужчина пятидесяти лет, бывший артист Театра Корша, живший с сестрой Елизаветой на втором этаже в двух смежных маленьких комнатках, всякий раз, глядя на эти потоки, бегущие перед парадным, прежде чем ступить в воду и замочить обувь, философски восклицал: «Так и жизнь катиться мимо, полная бульканья и мусора! И виноватых нет!» И театрально разводил в стороны руки с широкими ладонями. Однажды к этим словам он прибавил еще кое-что. «И никакая власть, – заявил он, – ничего не может с этим поделать… Ни царская, ни какая иная!» Эти слова были услышаны и стоили Орлухо-Майскому очень дорого.