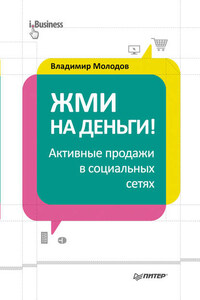Театральный осветитель Скобелев, проходя по краю сцены, сорвался и упал в оркестровую яму. И пролежал в ней два дня – до того ему было там хорошо, что он решил остаться.
Обнаружили его местные оркестранты, явившиеся на репетицию.
– Ты что здесь делаешь? – спросила скрипачка Фельдман, сорокалетняя дама, миловидное лицо которой портил не в меру длинный нос.
– Что делаю? Лежу, – отозвался Скобелев.
– И все?
– И все.
– Молодец! – сказала Фельдман. – Подвинься, мне надо поставить пюпитр, а твои ноги мешают… Если бы не сегодняшний день рождения мамы, я бы тоже здесь устроилась. Надоела пошлая жизнь!
– А я лягу, – заявил флейтист Птоломеев и, отложив в сторону свою флейту, лег на пол. Сняв предварительно ботинки для удобства.
– Хорошо я сегодня новые носки надел, – шепнул он Скобелеву.
Тот протянул ему руку.
– Иван.
– Эдик! – представился флейтист.
Скобелев улыбнулся.
– Ты знаешь, – сказал он, – я здесь вторые сутки… и вот занятная штука: курить не хочется! Веришь?
– А выпивать? – поинтересовалась Фельдман, словно была заядлой пьяницей.
– Тоже.
– Что же ты делал все это время? – спросил Птоломеев.
– Лежал… – Скобелев вновь улыбнулся. – Смотрел вверх… На небо… Там звезды. Красиво!
– Небо? Здесь? – Фельдман недоверчиво посмотрела на потолок, на котором висела огромная люстра.
– Если бы не путевка на Канары, – вздохнул виолончелист Давыдов, – и я бы к вам присоединился…
– Да брось ты свои Канары! Здесь лучше! – вздохнула Фельдман и вновь бросила взгляд на потолок.
Пришел дирижер. Началась репетиция.
– Попрошу с двенадцатой цифры! – сказал дирижер и постучал палочкой по пюпитру.
Скобелев и Птоломеев затихли.
Музыканты заиграли.
– По-моему, Дуркин на фаготе фальшивит… – тихо сказал Скобелев, обращаясь к Птоломееву.
– Я и без вас знаю! – громко прервал его дирижер. – Лежите тут – и лежите!
И ушел, обиженный, заявив, что на сегодня он записан к зубному врачу.
Музыканты посидели некоторое время молча, потом как-то дружно поднялись и шумно отправились в буфет.
Скобелев и Птоломеев остались в оркестровой яме одни.
– Жена будет ругаться, если я не приду домой, – задумчиво сказал Птоломеев. – Подумает, что был у любовницы…
– А ты иди, – сказал Скобелев, – я тут за двоих полежу…
– А твоя жена? Переживает, наверное, что тебя нет дома?
– Пусть поживет одна… Может, тогда поймет, что почем.
– Нет уж, никуда я не пойду! – заявил Птоломеев. – Мы теперь с тобой в одной связке, как пара гнедых…
Вечером шел спектакль без музыки. Точнее, она была, но не живая, ее давали в записи.
В яме было пусто и тихо.
Артисты ходили по сцене и несли отсебятину.
– Чего они там несут?! – удивлялся Птоломеев. – Врут безбожно! Нельзя так с «Дядей Ваней» Чехова.
– Да ладно, – мирно заметил Скобелев. – Зрители все равно ничего не поймут… Чей он дядя – Чехова или нашего главного режиссера – им без разницы! Они пришли на Веселовскую посмотреть!
Веселовская, следует сказать, была ведущей актрисой театра, много и удачно снималась в кино, и ее имя на афише буквально притягивало зрителей.
– Я не знаю, чего они нашли в этой Веселовской? – пожал плечами Птоломеев. – По мне, Кашина лучше… А впрочем, скорей бы ночь, как они мне все надоели!
После спектакля зрители долго хлопали, не желая отпускать Веселовскую. Они бросали ей цветы через оркестровую яму. Один букет попал партнеру Веселовской в лицо. Тот грязно вполголоса выругался, но лежащие в яме Скобелев и Птоломеев хорошо слышали его.
Один из зрителей, прыщавый тщедушный молодой человек восемнадцати лет, полез грудью на борт оркестровой ямы, желая быть поближе к своему кумиру и чтобы та его заметила, когда он станет бросать букет.