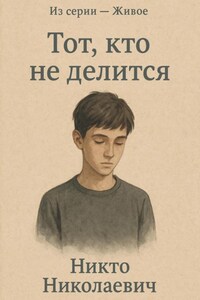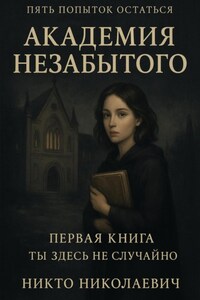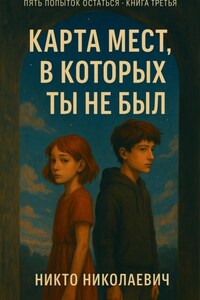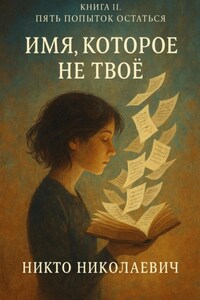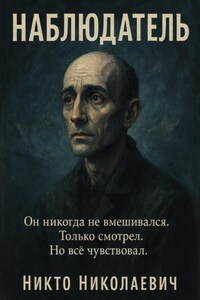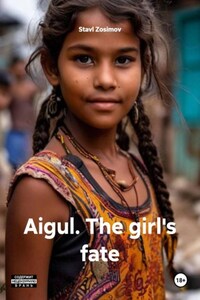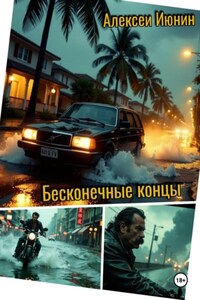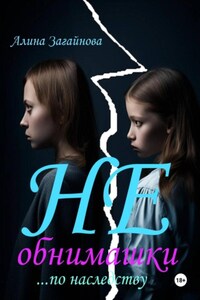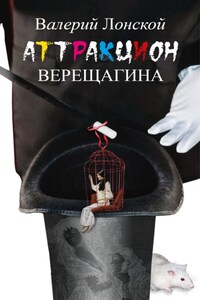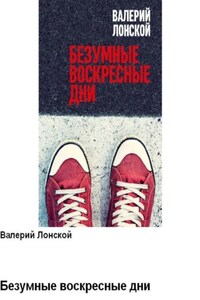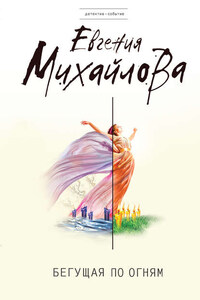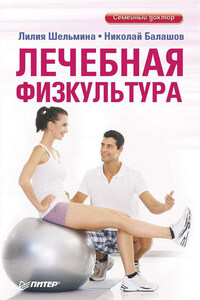Пролог. Эфирное детство
В Городе Потоков дети не кричали – они выходили в эфир. Любой роддом был студией с мягким светом и стерильными объятиями камер. В момент, когда новый человек вдыхал впервые, на его крошечном запястье загоралась тонкая лента-браслет: сердцебиение, гормоны, первые звуки – всё превращалось в ленту из пульса, графиков и надписей «добро пожаловать». Родственники ставили сердечки, акушерка нажимала «поделиться», а алгоритмы предлагали имя, будущее и список друзей по совпадению биохимий.
Так было правильно. Так было удобно. Так было спокойно, потому что ничего тайного в мире не оставалось – а когда тайного нет, нет и страха. Пугала лишь пауза, эта древняя звериная тьма между фразами. В Городе Потоков паузу считали поломкой или преступлением. На всякий случай – обоими.
В день, когда родился Зей, свет в палате был такой же мягкий, как всегда. Ко всем приборам тянулись белые шнуры, похожие на струны, и казалось, что сейчас родится не ребёнок, а музыка. Мать дышала по ритму метрики на экране, отец держал в руке телефон, чтобы не пропустить первый комментарий к первому вздоху. Камеры зевнули объективами. Мониторы моргнули зеленью. И – ничего.
Никакого сигнала. Ни писка, ни графика. Браслет на запястье младенца погас, как будто утомился еще до начала. Ребёнок лежал, теплый и реальный, с живыми руками, с маленьким ртом, в котором дрогнуло то ли «а», то ли «жизнь». Но система не слышала его. Для города он не начался.
Сначала подумали – аппаратура. Вызвали техника с серебряным чемоданом, он ловко заменил датчик, поправил ленту, сменил частоту, поставил резервную камеру на случай «неучтенной широты души». Ничего. Пустой канал. На стенном экране, вместо традиционного графика счастья, завис черный, честный прямоугольник. В углу скромно мигал таймер: «в эфире – 00:00».
Мать впервые оторвалась от заданного дыхания и посмотрела на сына – не в экран, а прямо, глазами, которыми теперь редко пользуются. Ребёнок ответил ей серьезным, как у стариков, взглядом. Он спал. Он был. Система не была.
В тот день у роддома начали собираться любопытные – подписчики отделения. Лента репортажей шла, как всегда: «Нам обещан уникальный случай!», «Первый младенец-интроверт!», «Сбой века!» К вечеру пришли два чиновника из Департамента Публичного Благополучия; они принесли документы: «Рекомендации по немедленной настройке», «Временный регламент прозрачности», «Согласие на вмешательство ради всеобщего спокойствия». Вежливо, аккуратно, как будто речь шла о ремонте проводки в коммунальном раю.
Техник снова стелил датчики. Врачи на всякий случай измеряли всё, что можно измерить: температуру, рефлексы, уровень поэзии в крови. Ребёнок ежился и морщил лоб. Не то чтобы ему не нравилось – просто он был занят: рос. А рост – дело камерно-частное.
К третьему дню на браслете Зея загорелся единственный значок – пустой кружок эфира, перечеркнутый тонкой линией. «Канал недоступен». Мать прижала сына крепче и, неожиданно даже для себя, не нажала ни одной кнопки. Отец, привыкший снимать всё, что движется и даже то, что стоит, опустил телефон. Камеры, не получив разрешения, вежливо отвели объективы. Когда тишина впервые признается законной, она звучит как амнистия.
Выписка была тихой. На исходе недели роддом вежливо опубликовал «пояснение»: здоров, показатели в норме, коммуникация «в офлайн-режиме», просьба отнестись с пониманием. Комментарии были мягко-возмущенными: «А как же общее?» «А как отслеживать?» «А вдруг что?» Люди давно не задавали вопросов, на которые нельзя ответить датчиком. Эти три – пахли прошлым, в котором приходилось жить вслепую.
Зея принесли домой – не в интернет, не в приложение, а в комнату с окнами. Днём его укладывали спать в полосатую тень от жалюзи; ночью он шевелил руками так, словно плыл под водой. Иногда он плакал, но не для того, чтобы кто-то поставил лайк, а чтобы к нему подошли. Мать подходила. Мир – тоже, но не сразу.