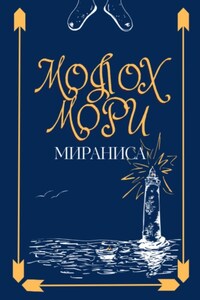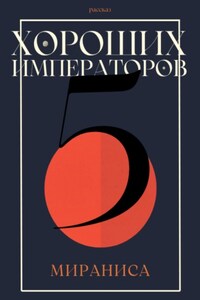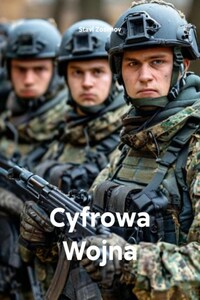Это был густой запах опрелости. Разило затхлостью, густой и тягучей, обволакивающей всю безмятежную обстановку комнаты. От спёртого аромата влаги и лекарств густились тени на полках и углах, под небольшим столиком и у плинтусов. Но сильнее всего мрак клубился под пустой колыбелью. Это был манеж, деревянный, с кренившейся внутрь решёткой и аккуратно сложенным балдахином. Соорудить карниз для фатина не вышло, а потому крепился он на прямой вешалке, приколоченной прямо к стене.
Разило задушливым смрадом, слишком вязким и сладким; несло от подушек и плотного одеяльца. По углам тогонеравномерно грудился гусиный пух вперемешку с хлопковым; к середине он заметно редел – с особым усердием из-под ткани выбивались сучки и опилки, застрявшие в линте. Стоило глубже потянуть носом воздух, чтобы уловить, как едва заметными ручьями прелый аромат разливался от центра бумазейного одеяльца с вышитыми розами посередине.
Во сне она всегда его тянула под себя, под правый бок.
Но колыбель со смрадным запахом смерти возымела привычку оставаться пустой. Пустовала она вчера, и завтра останется такой же.
Ближе к окну, откуда ретиво пробивались лучи солнца сквозь газетную бумагу и гардину, разило, однако,слабее. У невысокого стеллажа запах мог и затеряться, но лишь в случае, если пересечь комнату от колыбели на семь шагов, а остановиться от этажерки в двух. Если подойти ближе, то спёртый душок появлялся вновь, но несколько отличный, кисловатый. Он доносился из детских башмачков, впечатляющей колоннадой выстроенных на каждой полке. Плотные ряды их – кроме самых верхних – напоминали ратницу туфелек со строгой линией, на которую должны были равняться все носки. Вычищенные, залатанные, с новёхонькими лентами из атласа и тафты, с подбитыми каблучками и швами – некоторые лоснились мягкими мазками гуаши, другие поблёскивали в тусклом свете густым шитьём бисера, а третьи и вовсе филигранно обтянулись в белоснежные кружева. А ещё имелась пара башмачков, изрисованная акварелью, – прямо на белых лакированных босоножках синими причудливыми вензелями, подобно гжели. Другая часть оказалась туго задрапирована хлопковым бархатом, а поверху – вышитые из мулине зверюшки. Особо примечательными могли показаться три пары туфелек на ремешке, по бокам и центрам которых изображались шесть сцен из сказки о кролике Питере и его друзьях.
О, это были уникальные туфельки. Помимо вихрастых узоров, тонких кружев и поразительных сюжетов, они могли впечатлить всякого своими крошечными размерами, ведь длина каждого башмачка не превышала четыре с половиной дюйма.
Не было бы бахвальством назвать стеллаж с такими туфлями маленьким деревянным музеем, а его содержимое – искусством. Но высшим оно числилось преимущественно на нижних полках, тогда как на верхних тугие ряды туфелек разбивали всякого рода мелочи. А на самой высоте и того пылилась вся классика приключенческой литературы: цикл Джеймса Фенимора Купера, несколько романов Марка Твена, знаковое произведение Германа Мелвилла и многое другое. Но и это не всё. Вот ещё, например, между полуторной парой – новой и старой – примостилась потёртаяфоторамка с калейдоскопом рядышком. Слева от неё пестрили красным заношенныекроссовочки с абсолютно новыми шнурками, а справа – одинокая туфелька цвета слоновой кости. Убористым почерком она была исписана самой тривиальной из возможных фраз: "Я люблю тебя". Но примечательной отнюдь не этим оказалась единственная в своём одиночестве туфля. Прямо на носке её цеплялась сургучная печать, скрепляя столь ценное послание в маленькой обуви. А по бокам с обеих сторон тянулась в плиссе крепкая бумага, подобно крыльям.
Это было письмо.