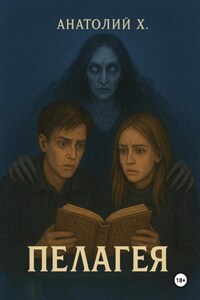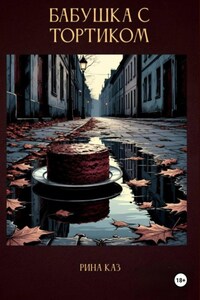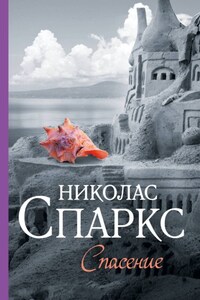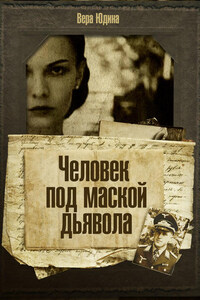Туман. Он был вечным жителем порта Вайбовска, его дыханием и саваном. Он заползал в самые узкие щели между складами, окутывал ржавые борта сухогрузов, превращая их в призрачные острова, и глушил звуки, делая мир слепым и глухим. Для одних туман был укрытием, для других – ловушкой. В ту ночь он стал свидетелем.
Часы в портовой диспетчерской показывали 04:47. Город еще спал, но порт никогда не засыпал по-настоящему. Его жизнь была измерена не днями и ночами, а приливами, отливами и графиком погрузки судов. Где-то в молочной мгле завывала сирена буксира, и этот звук, словно крик раненого зверя, растворялся в сырой, пропитанной запахами соли, мазута и гниющей древесины пустоте.
Деревянный пирс №3, старый и прогибающийся, отчаянно скрипел под тяжелыми, подбитыми стальными пластинами ботинками. По нему, спотыкаясь о разболтавшиеся доски и петли тросов, шел Семен Раков по прозвищу Клык. Прозвище это он получил не за агрессию, а за единственную уцелевшую после давней драки черту – длинный, белый шрам над левой бровью, делавший его похожим на старого, озлобленного волка. Он был боцманом грузового судна «Морской волк» и возвращался на борт после ночной попойки в портовом баре, где пытался заглушить тревогу, глодавшую его изнутри уже несколько дней.
Капитан, Александр Васильевич Колесников, в последнее время был не собой. Молчаливый, замкнутый, он постоянно куда-то звонил, что-то искал в старых судовых журналах, а вчера вечером и вовсе отдал Клыку странный приказ: явиться на судно ровно в пять утра. «Важное дело, Семен. Касается „Сирены“. Не опаздывай». Упоминание «Сирены» заставило Клыка похолодеть. О этом корабле не говорили. Это было табу, проклятие, призрак, витавший над портом вот уже десять лет.
Фонарь в его руке выхватывал из тьмы обрывки реальности: ржавые цепи, лужи на потрескавшемся асфальте, одинокую чайку, спящую на кнехте. Воздух был таким густым, что его можно было жевать. «Чертова погода», – пробормотал он, хватаясь за холодные, обледеневшие перила дрожащего трапа. «Морской волк», некогда грозное трудяга-судно, сейчас выглядел как брошенный корабль-призрак. Его силуэт терялся в тумане, и только скрип такелажа нарушал зловещую тишину.
На палубе царила неестественная, давящая тишина. Не было слышно ни привычного скрипа снастей, ни приглушенных голосов ночной вахты, ни даже доносящейся из радиорубки музыки. Лишь капли конденсата, словно слезы, стекали по облупленным, ржавым перилам, отбивая мерзкую, похоронную дробь. Инстинкт, отточенный тридцатью годами в море, зашептал Клыку, что что-то не так. Судно было пустым. Слишком пустым.
«Капитан?» – хрипло окликнул он, и его голос утонул в вате тумана. «Александр Васильевич? Вы здесь?»
Ответа не последовало. Клык медленно прошелся по палубе, заглядывая в темные углы. Его фонарь выхватывал груды тросов, пустые ящики из-под провизии, разлитую у люка воду. Сердце билось все чаще. Он направился к люку, ведущему в трюм. Массивная металлическая дверь была приоткрыта. Из черного прямоугольника, ведущего вниз, тянуло запахом прогорклой рыбы, машинного масла и… чем-то еще. Чем-то металлическим, знакомым и оттого еще более пугающим. Запахом крови.
«Капитан?» – снова крикнул он, и на этот раз ему ответил глухой, одинокий стук – будто что-то тяжелое и мягкое упало в глубине трюма. Звук был настолько отчетливым и зловещим, что у Клыка по спине побежали мурашки.
Он медленно, стараясь не скрипеть сапогами, начал спускаться по скрипящей, шаткой железной лестнице. Каждая ступенька издавала оглушительный грохот в гробовой тишине. Луч фонаря метался по стенам, заляпанным мазутом, по ящикам с грузом, по низкому потолку, с которого свисали какие-то тросы.