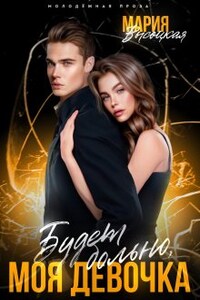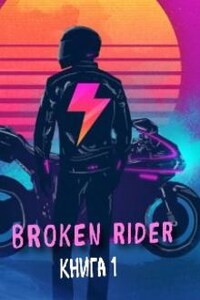- Ты сволочь, Доронин, тебе самому
от себя не противно?
- Противно, Элька, очень противно.
- Убирайся отсюда!
Он тяжело вздыхает. Чувствую его злость. Почему-то я всегда его
тонко чувствую.
- Ты не дашь даже шанса?
Отрицательно качаю головой. У него нет права на этот шанс. У него
больше ни на что нет права.
- Значит, всё, что было между нами, твоё потрясающее
притворство?
- Что? Нет... - осекаюсь, теряя свою непоколебимую
уверенность.
- Я, возможно, самый ужасный человек, но ты не лучше, Эля. Разве
это любовь? Ты вычеркнула меня из своей жизни, вот так просто. А
сколько было сказано красивых слов, ты такая же лгунья, как и
я!
Замираю, а после уже не могу остановиться:
- Я лгунья, я не любила? Как ты смеешь, после всего... разве это я
изуродовала тебе жизнь? Я скрылась с места аварии? Я спорила на
тебя, как на кусок мяса? Я врала и прикидывалась не собой? Смотри
на меня, Доронин, это всё делала я?! Как у тебя только хватает
совести... Данил, это не игра, слышишь, уходи. Всё кончено. Хватит
твоих игр! Хватит!
Ору, закрывая уши руками, оседая на пол по стене.
Доронин тянется ко мне, но я пресекаю любые попытки одним только
взглядом. Мне так больно. Невыносимо. Он чудовище. Чудовище, в
которое я имела глупость влюбиться. Почему судьба так коварна,
почему человеком, который смог меня починить, стал именно тот, кто
сломал?!
"Ночь. Вы когда-нибудь
задумывались о том, что чувствуют незрячие? Ведь их жизнь - вечная
ночь. Тёмная, холодная, страшная. Когда ты находишься в коме, ты
испытываешь то же самое. Нет никаких туннелей, яркого света или же
какой-то счастливой, другой реальности. Нет. Есть только тьма и
ничего больше.
Наверное, первое, что тебя раздражает, когда ты приходишь в себя,
это свет. Яркий, режущий. Он кажется чужим. Ты привыкаешь к вечному
сумраку настолько, что лучи солнца больше не заслуживают твоего
внимания.
Когда я открыла глаза, то первое, что я видела и чувствовала, белый
потолок и встроенные в него лампы. Они светили слишком ярко.
Убивали мои глаза. Терзали их и будто смеялись. Они смеялись надо
мной и моей беспомощностью.
Второе - мамины руки. Они с такой силой стискивали моё запястье,
что хотелось закричать, чтобы она их убрала. Но голоса не было,
только нездоровые, еле слышные хрипы.
Третье - это боль. Адская, поглощающая, она терзала моё тело, не
останавливаясь ни на минуту.
Четвертое - страх. Жуткий. Порождающий панику страх.
Я не видела себя, не знала, что со мной. Не чувствовала. Не
помнила, я почти ничего не помнила. Только то, как мы возвращались
в город с дачи. У Ольки с Витькой была такая замечательная дача в
сосновом поселке, летом мы ездили туда на шашлыки, а зимой кататься
на лыжах. Мы ехали, пели песни, улыбались и совершенно не
подозревали, что через минуту всё будет закончено.
Я помню удар, помню, как мир крутился вокруг меня, пока машина,
переворачиваясь, слетела в кювет. Я помню боль, крики, вспыхнувший
огонь. Я помню, как рыдала Оля. Так громко. А ещё помню, что так и
не смогла дотянуться до её руки, которую она мне протягивала.
Эти крики, жуткие образы, окутавшее пламя, они врывались в моё
сознание, я металась по больничной койке в агонии, хрипела вновь и
вновь проживая ту ночь. Мне кололи успокоительное, обезболивающее,
но это не помогало. Из раза в раз я открывала глаза и проходила
через этот ад. Снова и снова. Снова и снова".
Настоящее.
Мама стоит в кухонном проёме, на голове у неё закрученное
полотенце, и она явно походит на египетскую мадемуазель времён до
нашей эры. На ней васильковая пижама и смешные тапки-единороги, я
подарила их ей на Восьмое марта. Милые, пушистые и такие
разноцветные. Она долго смеялась, но не забросила их в далёкие
дебри шкафа, а поставила красоваться перед кроватью и теперь каждое
утро разгуливает в них по дому.