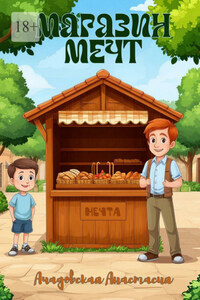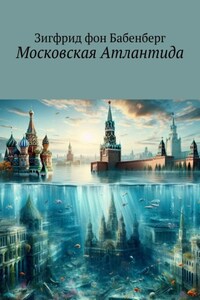Прохожие шарахались в стороны от энергично шагающей строго посередине тротуара Кати, со спины похожей на не вполне ещё сформировавшегося подростка, а на лицо – пожилой, измученной женщины:
– Сволочи! Пидарасы! Поджидки! Пиздарвань! Говно! – летело в направлении случайно оказавшихся на её пути людей вместе с брызгами слюны.
Катя, на самом деле, и не видела никого и, уж тем более, ни к кому конкретно не обращалась. Она просто разговаривала с кем-то, невидимым простому человеческому глазу.
– Как таких выпускают? – слышался приглушённый ропот напуганных пешеходов.
Катя была довольно высокой и сутулой. Тёмные волосы с едва заметной проседью коротко пострижены и взлохмачены как у задиристого мальчишки. Костлявые бедра и тощие неженские ноги в растянутых на коленках и провисших сзади шерстяных гамашах, верх от советского спортивного костюма с воротом на молнии.
– Шалава! Сука! – гаркнула Катя прямо в ухо толстой тётке с нещадно разукрашенным лицом, которая неожиданно встала на её пути. – Блядь! – веско закончила Катя и грубо толкнула её всем телом.
– Какая я тебе блядь? – зычно откликнулась тётка. – Я – жена и мать двоих детей!
Но Катя уже не слышала её, а продолжала уверенно идти дальше.
Катю местные называли «дуралейкой» не за то, что ей уже в пять лет поставили неумолимый диагноз, а потому что она с детства ходила каждые пятнадцать минут обливаться водой: сначала подставит голову под кран, потом наберёт воды в ладошки и обильно смачивает тело прямо под одеждой. Вечно с неё текло, как из ведра. Так и ходила – вся мокрая, оставляя за собой ниточку оброненных капель.
Когда-то они жили втроём с мамой и старшим братом. Потом умерла мама, женился брат, и Катя осталась одна в коммунальной комнате в центре города. Брат приезжал раз-два в месяц. Привозил ей сигарет. Покупал лёгкие «Винстон», дорогие. Катя вырывала блок сигарет из его рук и шептала: «Мразь… Выродок…». Брат не обижался: он её другой и не помнил. Только совсем маленькую, когда ещё и говорить толком не умела.
Видимо, с её ранней болезнью было связано и странное нарушение речи: она никогда не говорила фразами – только существительными, изменяя при необходимости род и число. Слова она запоминала, в основном, бранные. Мама была знаменитой на всю улицу матерщинницей. Катин брат вообще подозревал, что мама их была сама не вполне здорова. Пила она здорово, с юных лет. А после рождения Кати совсем опустилась: слонялась по подъездам, дома не ночевала, денег не приносила. Жили благодаря бабушке, которая исправно навещала детей и привозила продукты. Тоже покойница уже.
На зиму брат сдавал Катю в больницу, на лечение, которое, в сущности, заключалось в каком-никаком трёхразовом питании и гарантированной койке в отапливаемом помещении. В двенадцать лет Катя зачем-то забрела на кладбище и чуть было не замёрзла там. Хорошо, сторож любопытный попался. С тех пор брат боялся оставлять её на зиму одну.
В больнице при приёме в который раз происходила бессмысленная беседа с врачом. Катя смотрела в пол и беззлобно материлась. В палате она ни с кем не общалась и любую попытку завязать разговор обрывала очередным оскорблением. К ней привыкли и не трогали больше. Только сигареты стреляли. Катя была не жадная.
Раз в неделю был главный обход: профессор подходил к каждому больному и спрашивал, как настроение. Катя всегда отвечала односложно:
– Мудила! Говносос! Импотент!
Профессор мелко тряс головой и с озабоченным видом поворачивался к заведующему отделением. Они о чём-то шептались между собой и понимающе окидывали взглядом Катину жалкую фигуру. Помолчав, отходили к другой, как правило, более миролюбивой пациентке.