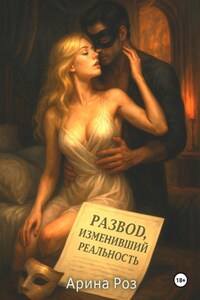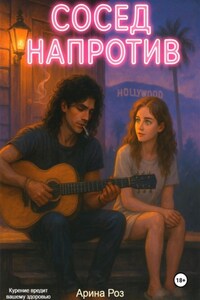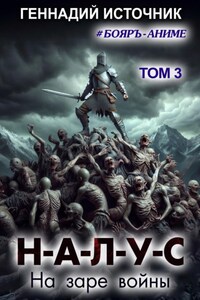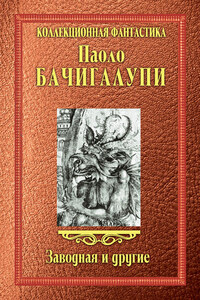Нью-Йорк с утра – это декорация, собранная из стекла и острых углов. Все вылизано, выверено точно по линейке, и все при этом будто не про меня. Такси несется по улице. За окном виднеются одинаковые лица, одинаковые пальто, зонты, кофе в руках, собаки на поводках, дети в капюшонах, велосипеды, и все это – в синем фильтре. Я –мрачно смотрю на город – ощущение, будто еду сквозь фильм, который давно видела. Финал известен. Зрители уже разошлись.
Я замечаю свое отражение в стекле. Вижу женщину с безупречной укладкой, нежно-розовой помадой на губах и с тонкой линией стрелок на глазах. Окидываю себя взглядом: рассматриваю свое любимое черное пальто, чуть приоткрывающее колени. И эта женщина – не я. Или, точнее, тот образ, который я сама когда-то нарисовала, отретушировала, выставила на всеобщее обозрение и подписала фамилией мужа. Все в ней на месте: глаза чуть прищурены, губы всегда чуть напряжены, осанка уверенная. Но если присмотреться – внутри пустота. Я бы нарисовала эту пустоту как легкое мерцание белого шума, как пустоту в комнате. Внутри нет звука, запаха, настоящего дыхания.
Такси поворачивает. Машина слабо скрипит, будто неохотно меняет направление. Подкладка пальто касается кожи на лодыжке – холодная ткань, чужая и слишком гладкая. В этом городе все или острое, или скользкое. Даже мое тело. Даже мои мысли.
Джон сказал, что вызвал машину заранее. Он всегда так делает: упорядочивает мой день, как будто он принадлежит ему. Как будто я часть его календаря. Я ничего не сказала, только кивнула. Я вообще часто киваю. Иногда мне кажется, что если вырезать из меня все жесты согласия, я стану меньше. Процентов на тридцать.
На углу женщина в красной шапке фотографирует свою собаку. Я почти улыбаюсь. Потому что губы не двигаются. Улыбка – это слишком личное. А в Нью-Йорке все личное или дорого стоит, или вызывает неловкость.
Такси притормаживает на светофоре. Водитель – мужчина лет сорока в кожаных митенках – смотрит на меня через зеркало заднего вида. Его глаза не любопытны и не грубы. Но я отвожу взгляд. Я всегда так делаю.
Мне тридцать пять. Я художница. У меня своя галерея. Я замужем. Я плачу налоги. Я делаю смузи по утрам, не забываю даты открытий своих выставок и умею вести светскую беседу. Я – как холст, на котором все уже написано… правда другими людьми.
Я открываю сумочку, нащупываю губную помаду – четкое движение, привычное. Цвет называется «Ледяная роза». Как раз под стать сегодняшнему небу. Мои пальцы немного дрожат, когда я провожу по губам, хотя внутри я спокойна. Просто устала. Или немного замерзла, пока ждала такси, потому что ветер сегодня сильный.
Раньше я точно знала, кто я. Помню, как кожа отзывалась на ветер, как запах кофе бодрил по утрам, как хотелось обнимать подушку и не отпускать ее до полудня. Теперь я все это не замечаю. Все стало фоном. Как будто звуки приглушены, вкусы – ослаблены, а желания больше похожи на воспоминания.
Даже я сама – лишь предмет интерьера, выдержанный в общей концепции нашего дома. Как витрина в галерее – стекло, свет, ни одной пылинки. Никто не знал, как внутри дрожит кисть. Как она рвется к цвету, к мазку, к возможности ошибиться.
Я когда-то любила совершать разные безумства. Однажды я убежала с выставки прямо перед речью и поехала к морю. Такая синяя вода, такая живая. Я нарисовала ее руками. Краска была в волосах, на щиколотках, на носу. Я заснула на песке. И проснулась другой.
Потом я вернулась. Джон сказал: «Ты могла и предупредить». Я ответила: «Я пыталась». Он ответил: «Нет. Ты просто исчезла». Я не стала спорить. Потому что исчезать – иногда единственный способ почувствовать себя живой.