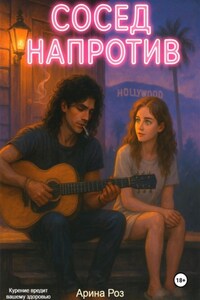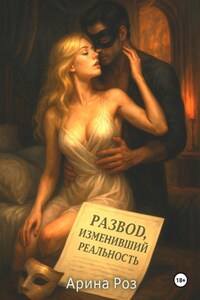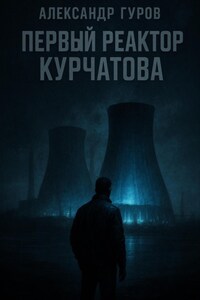Это началось в один из особенно жарких майских дней, кажется, 1987-го.
Лос-Анджелес стоял в знойной неге – разом разомлевший, пыльный, точно ленивый кот, разлегшийся на крыше под солнцем. Воздух дрожал над асфальтом, и запах гари, бензина и пыли казался естественным, как собственное дыхание. Американская мечта была в самом расцвете. Глянцевые журналы пестрили обложками с фотографиями рок-групп и актрис с лисьими глазами. Кассеты перематывались карандашом, разноцветные автомобили лениво ползли вдоль длинных бульваров. Кто-то крутил новомодные хиты на полную, кто-то распивал пиво, сидя прямо на багажнике своей или чужой тачки. Все куда-то двигались, но никто никуда особо не торопился.
На обочинах Сансет-стрип клубы распахивали двери с наступлением темноты, и бульвар начинал пульсировать – как нерв, как ритм. Там, где вечерние неоновые огни расплывались в линзах грязных очков, начиналась другая жизнь. Жизнь без «завтра», без «надо», без «будь, как все». Эпоха, когда город дышал свободой. Америка тогда еще пребывала в сладкой дреме, веря, что можно не просыпаться.
На Голливудских холмах, на высоких обочинах, где заборы из мраморных плит и железных оград, все дышало иначе. Там была своя жара – благородная, дорогая. Воздух там пах не выхлопами, а деньгами, духами и просторными патио с великолепными видами на закат. Кажется, сами дома – с плоскими крышами, широкими террасами, с роскошными бассейнами – дремали, томились, слушали, как молодость шумит на улицах под ними. Лос-Анджелес был полон контрастов.
Да, этот май пах бензином, потом, сексом, кокосовым маслом и новым винилом. Май, в котором легко было влюбиться, если однажды ты неосторожно выглянешь в окно и увидишь, как на крыльцо выходит… Ник Брукс. И на первый взгляд может показаться, что он просто курит. А на самом деле становится первым аккордом твоей истории.
Ник Брукс – тогда уже вполне узнаваемый в джазовой среде как Снейк – только что приобрел особняк на холмах. Не потому, что грезил об этой голливудской мечте с колоннами и бассейнами, – скорее, из-за того, что слава и деньги навалились слишком резко, и он, по правде говоря, понятия не имел, куда это все девать. Он был гитаристом и просто горел музыкой.
Высокий, жилистый, с копной черных, как нефть, кудрей, вечно растрепанных, будто он только что отыграл концерт или вылез из постели – тут уже как повезет. Слишком худой для классического красавчика, слишком смуглый, чтобы стать голливудским принцем, но именно это и делало его таким притягательным в глазах юных и не очень юных фанаток. В нем была та самая неприкасаемая свобода, которую невозможно симулировать. Он словно наплевал на все правила и сделал это первым – задолго до того, как это стало модным. Множество браслетов и колец, старая футболка, потертые кожаные штаны, сапоги даже летом – и в этом не было позерства. Скорее, чистая природа. Он не играл в плохого парня. Он им был.
Взгляд у него был тяжелый, дерзкий, с ленцой. Почти насмешливый – особенно когда он молчал. А молчал он часто. Как и курил – будто родился с сигаретой в пальцах. Говорил мало, медленно, но всегда по делу. И все это, вместе с гитарой, в которую он вкладывал себя больше, чем в женщин, контракты или интервью, создавало ту самую легенду, образ которой уже начинал обрастать слухами. Он был будто с другой планеты, не из этой реальности. Он был ближе к дыму, джазу, девочкам с подведенными глазами и полуночной музыке на старом виниле.
Не сказать, что Ник стремился к славе и всеобщему обожанию, хотя и в этой тарелке он ощущал себя комфортно. Просто так случилось, что в один момент его жизнь круто изменилась, когда во время очередного выступления в местном баре, его заметил промоутер одного небезызвестного лейбла. Не успел Ник моргнуть и глазом, как вместо редких выступлений в маленьких клубах стал получать предложения от продюсеров, а затем раздавать интервью и подписывать контракты.