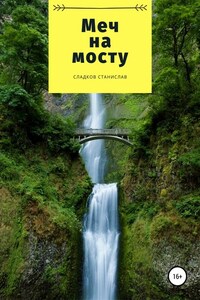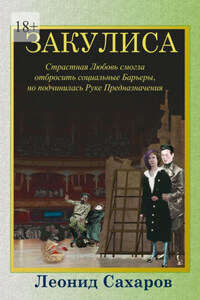Жёлтый. Кричащий, почти нелепый в своей яркости, словно всплеск канареечного безумия на фоне всеобъемлющей серости. Её маленькая машина, новенький городской хэтчбек цвета «лимонного шербета» – так это называлось в салоне, – стояла у тротуара, вызывающе чужая в этом угасающем пейзаже. Она казалась Хани нелепым артефактом из другого времени: капсулой, отправленной на заброшенную планету. Хани не выключала двигатель, слушая его ровное, безразличное урчание. Оно было единственным звуком, нарушающим гнетущую, осязаемую тишину этого места, тишину, которая казалась не отсутствием звука, а присутствием чего-то тяжёлого и старого. Пригород давно уснул, впал в спячку вместе с памятью о тех, кто когда-то наполнял его жизнью, детскими криками, ароматами жареного мяса по вечерам и музыкой из открытых окон.
Дом. Это слово отозвалось в ней глухим эхом, без тепла, без узнавания. Не дом, а строение, даже скорее призрак: два этажа из силикатного кирпича, когда-то белого, а ныне – грязно-серого, покрытого паутиной трещин, словно морщинами на лице старика, который слишком долго смотрел в пустоту. Ставни на окнах второго этажа, когда-то голубые, а теперь облупленные до серой древесины, были закрыты, словно веки. Веранда, та самая, где они когда-то пили чай с мятой по вечерам, и папа рассказывал невероятные истории о дальних странах, скривилась и просела, превратившись в кривую, беззубую ухмылку. Хани ждала, что жалюзи в соседнем доме шевельнутся, и появится любопытный взгляд миссис Аделаиды, но и там было темно и пусто. Казалось, вымерла не только эта улица, но и само время впало в спячку вокруг этого места.
Ладони у неё были влажными, липкими. Она сжала их в кулаки на руле, чувствуя, как коротко подстриженные ногти впиваются в кожу. «Просто зайди, возьми документы, и всё. Быстро и просто, одна нога здесь – другая там. Не надо всё опять усложнять», – повторяла она про себя мантру, заученную за последние недели. Но ноги отказывались слушаться, стали ватными и тяжёлыми, будто налитые свинцом. Она взглянула на себя в зеркало заднего вида – бледное лицо, тёмные круги под глазами, которые не скрывал даже тональный крем, губы, сжатые в тонкую, безжалостную ниточку. И здесь тоже она ощущала себя чужой.
Наконец, с резким, почти яростным движением, она дёрнула ключ из замка зажигания. Урчание двигателя сменилось оглушительной тишиной, которая навалилась с новой, подавляющей силой. Она глубоко вздохнула, открыла дверь и вышла. Хлопок дверцы прозвучал как выстрел, раскатившийся эхом по спящей улице, оскорбительно громкий в этой всепоглощающей немоте. Атмосфера в помещении была прохладной, влажной, пахла прелой листвой, сырой землей и далеким, едким дымом – кто-то жёг прошлогоднюю траву на окраине.
Сделав несколько шагов, она остановилась перед калиткой. Та самая калитка, сквозь прутья которой она когда-то смотрела на большой мир, ожидая возвращения отца с работы. Она скрипнула тем самым до боли и до слёз знакомым скрипом. Он был таким же, как двадцать лет назад. Как и десять. Как и пять. Словно он был единственной константой в этом неспокойном рушащемся мире. Порог, на котором она когда-то, в семь лет, разбила коленку, гоняясь за котенком, – шрам, тонкая белая ниточка, до сих пор видна на её левом колене. Дорожка, выложенная кривыми, неровными плитками, между которыми пробивалась упрямая, выцветшая трава, ведущая к крыльцу, где папа однажды зимой устроил для неё целую ледяную горку.
И дверь. Та самая дверь. Когда-то папа красил её в ярко-жёлтый, солнечный, весёлый цвет, в самый разгар своей «утопической» фазы. «Чтобы всегда знать, где наш дом, даже в самую пасмурную погоду, дочурка, – говорил он, и его глаза смеялись, а в руках он держал кисть, с которой капала краска, как солнечные слезы. – Чтобы он светил тебе, как маяк». Теперь краска облупилась и потрескалась, уступив место серой, прогнившей древесине. И все же жёлтый ещё держался местами, ядовитыми, прокаженными пятнами, как последнее, упрямое воспоминание о счастье, которое отказывалось сдаться и умереть.