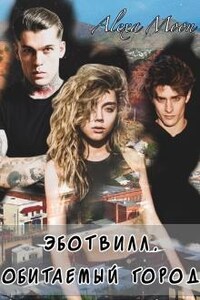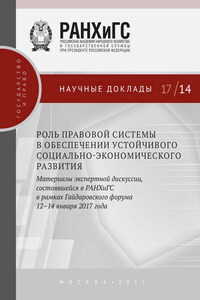Oderint, dum
metuant
Германик был достоин трона,
но стал-то жертвою интриг,
нескладным мифом легиона,
для сына — просто еретик.
А мальчик рос с душой тирана,
Тиберий видел сей изъян,
но, в предвкушении обмана,
не опасался новых ран.
Порок не следствие болезни,
хоть суть — гниенье и распад,
жаль, мертвецы все бессловесны,
и мало толка от декад…
За ним бесчестье, гордость, злоба,
непробудимая вина
и ненасытная утроба,
с рожденья данная сполна.
Явись, о, демон присносущий!
Калигула! Калигула!
Как день забытый, мрак грядущий:
Калигула! Калигула!
Он отвернулся от сената,
не скрыв ещё надменный взгляд,
мечтал пресечь приход Заката,
но грёзы сладостно пьянят!
Вино текло и липло к пальцам,
и страсти всё не шли на мель;
он доверял ночным скитальцам
и звал луну в свою постель.
Сей грех несёт воспоминанье,
грань сна, забытая давно,
и в том блаженство и воззванье,
неразрушимое звено.
И мир, объятый тишиною,
Калигула познал вот так,
влекомый искренне к покою,
он понял, принял этот мрак.
Исхода нет в тисках истомы.
Калигула! Калигула!
Смерть — пробуждение от дрёмы.
Калигула! Калигула!
То ненавистно было имя,
глаза как будто из стекла,
освобожденья нет с другими,
вечерняя ликует мгла.
За лживые стремленья — кубок!
Вино, издревле, лучший друг,
следами от гетерских губок
сияет горестный недуг.
Хотя, под чистым эликсиром,
видна и качка кораблей,
а падаль, скрытая с эфиром, —
всего-то, край от тонких рей.
Давно покинутое снами,
исчадье сложно загубить,
ни лучше ли сравнить с богами,
чтоб тягу к небу сохранить?
Воздай истлевшей в струпьях музе.
Калигула! Калигула!
Безумие и боль в союзе.
Калигула! Калигула!
О, жар! О, трепет! Славословье!
Насилье чувствуя везде,
порой теряешь хладнокровье,
в сплошной — бессмысленной нужде.
Жизнь на пороге содроганий
нисходит то на зыбь волны,
то к побережьям злых мечтаний
и к странным окликам луны.
Зовёт курчавый с Ахерона!
Огнём родного очага…
Не тронут безразличье склона
забвенья мёртвые снега.
Закат! Какая паранойя!
И страсть влечёт его к сестре,
на ложе павшего героя,
согреться в гибельном костре.
О блажь страны, дотоль нездешней.
Калигула! Калигула!
Что может быть ещё кромешней?
Калигула! Калигула!
Отрада — словно провиденье,
и вид прекрасной наготы
венчает сладкое мгновенье
превыше благ любой мечты.
Пристрастье к жуткому веселью —
как устремление стрелы,
и в удовольствие похмелье,
его священны кандалы.
Никто не знает, что творенье
само прогнило изнутри.
И что ж? Типичное явленье,
что разрешит посыл зари.
Публичные созрели казни,
и нечестивые стада —
до склок и лютой неприязни,
их бесконечна череда.
Ты тоже просишь урагана!
Калигула! Калигула!
В безмолвии до океана.
Калигула! Калигула!
Один, с обманчивой печалью,
несёт чуму в пустой дворец,
другой, с отравленною сталью,
ждёт, положить всему конец.
Калигула уже продумал
и выверил свои ходы,
прислуга действует без шума
под покровительством беды.
Назло и музыке певучей,
способной лишь поэта исцелить,
гимн рока в тысячи созвучий
лик солнца пробует смутить.
Но наслаждение уныло,
коль черт предвечных лишено,
свершает их одна могила,
вслед тщетность духа твоего.
А я омыт в блестящей мирре.
Калигула! Калигула!
Скольженье по багровой лире.
Калигула! Калигула!
Вращая радость и кручину,
законы истины и лжи
к тропе подводят вполовину,
не отдаляя мятежи.
Но есть предел, порог томленья!
Калигула! Верши свой гнев!
Да разве могут быть стесненья?
Достаток Рима — твой посев.
Во тьме кровавого потока
есть две тетради — «Меч», «Кинжал»,
и воля, воля полубога,
непостижимый идеал!
Поют не готы и не галлы, —
то звёзд нещадное кольцо,
огнём наполненные залы,
где прах въедается в лицо.