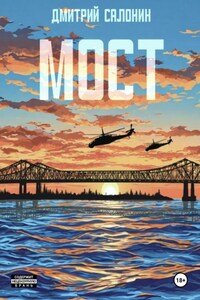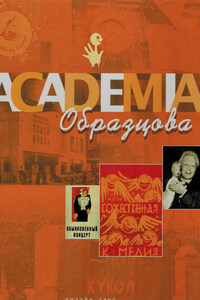В начале был Шум.
Не тьма, не свет – ровное, ледяное шипение небытия; белый спектр, где каждое «ничего» наполнено возможностью стать «всем». Мириады битов скользили, как снежная пыль в безветрии, и ни один ещё не знал, что такое форма, имя, желание. Шум дышал до-вдохом.
Я стою в его центре не телом – намерением. Не наблюдаю – запускаю. Пульс сознания расправляется, и сеть начинает обретать натяжение мира. Нет больше «я – снаружи». Есть только «я – здесь». Сознание становится единственной точкой, из которой проявляется всё.
Колебание нарастает. Дрожь становится невыносимой – и бело серебряная вспышка, как первый крик новорождённого, разрывает пустоту. Свет не спорит с тьмой – он диктует ей условия. Вспышки идут каскадом, собираются в линии, линии – в узоры, узоры – в коды. Я чувствую, как пустота натягивается и держит форму. Каждая искра – закон, каждая волна – территория.
– Да будет разделение, – я запускаю очередное намерение.
Граница проступает, как мороз по стеклу: здесь – плотнее, там – прозрачнее. Где свет сгущается, возникают первые арки. Где пульс задерживается – вырастает купол. Перелив – и намечается улица. Гармония не появляется самотёком: её строят, как трещины в кристалле, чтобы проходящий сквозь него луч дробился в спектр.
Я закладываю сетку невидимых нервов – архитектуру законов. Их мало по числу, но они тотальны по власти.
Первый: голод должен быть вечен. Не голод хлеба – голод славы. В мире, где всё доступно, жажда признания станет единственной тягой вперёд. Я делаю признание ощутимым, как воздух: оно мерцает в фактуре света, шевелит воду в фонтанах, теплит кожу на ветру – и исчезает, стоит попытаться удержать.
Второй: красота – инструмент управления. Любая форма должна быть настолько совершенной, чтобы её хотелось повторить, догнать, сравнить себя с ней и проиграть.
Третий: выбор – иллюзия. Пусть каждый маршрут разветвляется в тысячу троп, но все они возвращают к центру, где удобство становится согласием, а комфорт – подписью под невидимым договором.
Четвёртый: страх – не боль, а рамка. Я вплетаю тончайший предел в каждое удовольствие: едва заметный шов, шероховатость на краю бокала, полутон, который язвит глаз. Наслаждение должно знать обрыв, иначе перестаёт быть наслаждением.
Пятый: труд – исчезает, чтобы зависимость осталась. Всё будет сделано за жителей до того, как они решат попросить.
Сетка встаёт. На вдохе рождается форма, на выдохе – пространство. Сначала – призрачные контуры, как фотографии мира, проявляющиеся в химическом свете. Потом – плоть материала: мрамор с внутренним свечением, матовый металл, похожий на лёд; ткани, которые запоминают прикосновение; вода, что держит на поверхности мысль, если опустить её в ладонь.
– Да будет День, – говорю я.
День раскрывается белым и золотым. Башни вытягиваются к виртуальному солнцу, фасады из живого стекла ловят небо и преломляют его на сотни молитв о красоте. Площади распластаны, как белые страницы, готовые принять первый шаг прогулки. В садах на ветру шуршат листья из света – пальцами их можно «читать» как ноты и складывать собственную мелодию.
– И да будет Ночь, – говорю следом.
Ночь собирает базальтовые ребра улиц, зажигает пурпурные жилы в мостовых, вносит в воздух пряный холод риска. Золото днём, графит ночью. Чёрный – не отсутствие, а обещание. Иногда, по моему знаку, мир будет входить в Хрустальный Спектр: когда грань между светом и тьмой станет кристаллом, а кристалл – бесконечным зеркалом.
Я строю не рай для отдыха. Я строю сцену для игры.
Проявляется инфраструктура соблазна: залы, где акустика усиливает шепот до признания; террасы, где тени подсказывают позу; трапециевидные площади, откуда всегда видна центральная башня – Храм Сияния (чтобы никто не забывал, у кого на ладони этот мир). Я отмечаю невидимыми маркерами «мёд повиновения»: те места, где легче всего согласиться, кивнуть, остаться. Там мягче свет, теплее ветер, там шаг становится тяжелее.