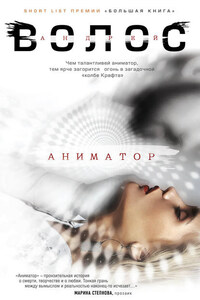Поезд остановился на станции Ситцев с такой неохотой, будто железнодорожные рельсы жалели выпускать еще одну душу в этот город. Гриша ступил на платформу – и его тут же окатило ледяным ветром, в котором застарелый железный дух сцепился с ядовитыми обрывками дизельного выхлопа.
Воздух можно было резать лопатой, и чем глубже вздох, тем меньше оставалось иллюзий насчет будущего. Платформа представляла собой торжество ветхости: деревянные доски под ногами пружинили, окраска слезала с поручней струпьями, а надпись "СИТЦЕВ" в обшарпанном антраците казалась объявлением об эвакуации, а не приветствием.
Маргарита Петрова высилась на краю платформы, как памятник техническому прогрессу. Высокая, с идеальной осанкой и брезгливой складкой губ, она хмурила брови на приближающегося гостя с таким видом, будто очередная партия груза опоздала или, что еще хуже, прибыла вовремя. С лица ее не сходила ледяная маска: ни приветливой улыбки, ни сантимента. По фасону – деловой жакет темно-синего цвета, узкая юбка, белоснежная сорочка, которую она носила с армейской аккуратностью. Черные волосы были собраны в такой тугой хвост, что подчеркнутые скулы отливали мрамором. На каблуках Маргарита была выше его сантиметров на пять, если не считать моральную дистанцию.
– Опаздываете, – сообщила она вместо приветствия. Голос резал начисто, без предисловий и запятых.
– Рельсы перекладывают, – мягко сказал Гриша. – До Ярославля шли три часа вместо двух.
Он посмотрел на нее с детской внимательностью, как будто примерял по очереди все штрихи портрета: стальные глаза, затянутую улыбку, щеткой подстриженные брови. Все это внушало уважение, если не настоящий страх. Гриша привычным жестом поправил пиджак и сгладил невидимую складку на брюках, сохраняя дистанцию, но не отводя взгляда. Вся его поза говорила: я на вашей территории, но правила мне известны.
– Мама не любит, когда опаздывают, – сухо отрезала Маргарита и повернулась на каблуках, давая понять, что экскурсия началась.
Она шагала быстро, не оглядываясь, и Грише оставалось только следовать за ритмом ее шагов: цок-цок по обнаженным бетонным плитам, цок-цок через лужи с плавающими фантиками и бычками. Город за платформой начинался с облупленной остановки, где рекламные баннеры просили купить героизм в таблетках или вылечить все виды одиночества по цене оптовой партии. Вдоль дороги стояли мертвые тополя, у которых срезали крону, оставив только изувеченные пальцы ветвей.
– Как впечатление от Ситцева? – спросила она, когда подошли к парковке.
– Не хуже, чем у остальных, – сказал Гриша, позволяя себе легкую улыбку. – По-своему красиво.
– Здесь всюду по-своему, – отозвалась она. – Даже банальность особенная.
Машина Маргариты была новенькой, но уже с царапинами на капоте. Белый "Рено" из последних серий – символ скромного, но принципиального достатка. Внутри пахло кожей и дорогим французским освежителем, к которому примешивался легкий аромат ее горьковатых и тяжелых духов. Она села за руль, устроившись с военной точностью; Гриша аккуратно пристроился рядом, не дотрагиваясь до пластиковых панелей – воспоминания о детских автобусах подсказали: не стоит пачкать чужие вещи, особенно если они чище тебя.
– Сколько вы пробудете в городе? – спросила она, включая поворотник.
– Пока хватит терпения вашей мамы, – ответил Гриша. – Или вашего.
Она безрадостно улыбнулась и включила первую передачу. Машина дернулась вперед, и за окном начали меняться пейзажи, как слайды в диапроекторе: панельные дома, облупленные вывески, старые церкви с облетающими куполами, редкие живые люди, замотанные в клетчатые шарфы. За окнами промелькнула площадь с памятником, у которого голуби сражались за жизнь и крошки, и купеческие особняки, в которых дух эпохи пережил не одно банкротство.