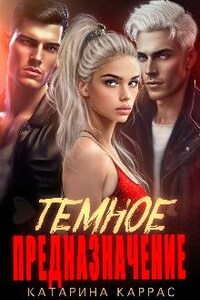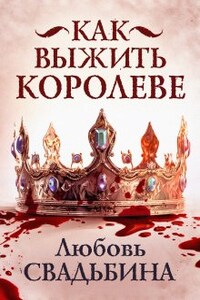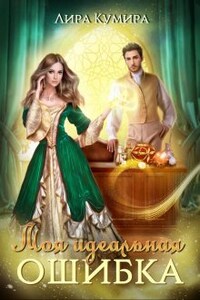Жил-был купец, богатый да удачливый,
и были у него две дочери, умная и красивая.
Умная – это я, Алена, а красивая –
сестра моя старшая, Марья-искусница.
Так хороша она была, что на нее
каждое утро парни со всей округи посмотреть сбегались. Высокая,
чернобровая, сдобная, как мякиш хлебный, - глаза сияют, щеки
румяные, губы алые, коса до колен змеей стелется. Бывало, выйдет
поутру с коромыслом по воду, а обратно уже налегке идет - за ней
парни ведра тащат. Проведут до крыльца, а там отец стоит, бороду
теребит, подкову задумчиво гнет - ручищи как дубы, кулаки как
колоды. Видят его женихи, бледнеют и улепетывают.
Я каждое утро на это гляжу, на
завалинке сижу, посмеиваюсь и шутки колкие отпускаю. С утра уже за
травами на луга заливные да в лес дремучий сходила, в туеске
принесла, разложила на холстине и перебираю. Руки сами работу
привычную делают, а язык душеньку тешит, над воздыхателями
сестриными издевается.
Парни морщатся, бычатся, но не
отвечают, знают, что на отповедь нарвутся, – так что на меня и не
смотрят, за сестрой шагают. Да и смотреть, если честно, не на что:
сама я с вершок, щуплая, на голове космы рыжей шапкой вьются. Нос
картошкой, глаза серые, кожа бледная да еще и в конопухах вся от
головы до пят. И не умею ничего, разве что людей да зверей лечить,
травы нужные находить. Травы меня любят, луга привечают, лес елями
да березками кланяется, грибы крепкие подбрасывает. А вот по
хозяйству у меня не ладится, хоть не ленивая я, но невезучая и
косорукая. Возьму метлу – черенок сломаю, тесто замешу – горшок
треснет, за вязание примусь – всю пряжу запутаю.
А Марья у нас и правда искусница:
все у нее спорится, пироги пекутся, щи парятся. И вышивает она, и
вяжет, и поет так, что птицы от стыда замолкают. А у меня голосок
слабенький, хоть и не противный, по мере сил ей помочь пытаюсь, но
больше порчу, только и остается, что подпевать ей и шутками
веселить.
Хорошо живем мы, душа в душу, друг
друга не обижаем, батюшку уважаем.
Батюшку нашего, Якова Силыча, и в
деревне уважают за нрав степенный да кулаки тяжелые. Советоваться
ходят, на свадьбы дорогим гостем зовут. А матушка наша, говорят,
была раскрасавица да умница, но померла семнадцать годков назад,
когда меня рожала.
Батюшка после этого год смурнее тучи
ходил, по-черному пил, на нянек-мамок нас оставив. А потом проходил
по деревне дед – калика перехожая, отца посохом святым по макушке
огрел, словами диковинными обругал – протрезвел отец, калике в ноги
поклонился, в дом его пригласил, как дорогого гостя угостил.
Покаялся ему, обет наложить попросил. Посмотрел на нас калика:
Марья в соплях, я на горшке - и наказал дочерей пестовать и больше
не озоровать.
Батюшка и сам заметил, что девки
быстро, как грибы после дождя, выросли, и побожился, что с пьянью
гиблой завязал, вторую жену брать не будет, сам нас и
воспитает.
И воспитал, да так, что к Марье, как
стукнуло ей тринадцать лет, со всех городов и стран поехали женихи
свататься. И картавые, и гнусавые, и носатые, и чернявые… Отказ
получали, да не терялись, то-то у нас по деревне малята и подросшие
уже ребята бегают – кто белый, кто черный, кто узкоглазый, кто с
носом орлиным. Девок наших никто не стыдил, наоборот, охотнее брали
– знать, своих детей будет много, раз от нечисти залетной и то
понесла.
Мне б завидовать сестре любимой, но
я не могла, потому что Марьюшка уродилась еще и доброты
неслыханной. Она меня на руках с младенчества за мамушку носила,
баюкала, нянюшке помогала, так что любила я ее безмерно. А то, что
глуповата немного, так того за добротой и не видно.
Я же непонятно в кого пошла. Мало
того, что корявенькая, так и характера вредного, языка острого. Как
скажу чего – как крапивой обожгу. Так и прозвали меня -
Аленка-Крапива. А я и не против: лучше так, чем насмешки терпеть. С
детства меня за рыжий волос и веснушки обильные дразнили, вот и
научилась я огрызаться, язык отточила. Давно перестали уже, а у
меня привычка язвить осталась.