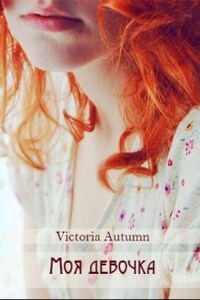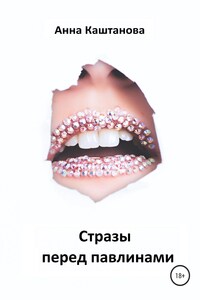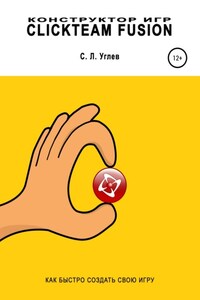Из князи — в грязи!
Миля знала, что так говорить нельзя. Но знала и другое: если
хочется, всё можно. А ей очень, очень хотелось. И словечек
неласковых от души прибавить…
Мыслимое ли дело, из двадцать первого века — в стародавние
времена, из мегаполиса — в дремучую деревню, из собственной
квартирки в элитном доме в двух шагах от университета — в
деревенскую халупу без света, воды, центрального отопления, а
главное, без интернета и мобильной связи. Была студентка института
государственного управления и предпринимательства, будущий
специалист по рекламе и связям с общественностью, единственная
дочка владельца супермаркетов шаговой доступности "Ешь и пей",
умница, красавица, баловница... а стала крестьянка крепостная!
Ну, может, и не крепостная. Как общество здешнее устроено, Миля
пока не выяснила, да и не особо стремилась. У неё других хлопот по
самую маковку: дров наколи, печь затопи, тесто замеси, по воду
сходи.
Два раза.
И не с ведёрком пластиковым, а с деревянной бадьёй, которая сама
пять кило весит, с водой — все пятнадцать. Вот поэтому и два раза.
С коромыслом управляться Миля пока не выучилась, тащить же сразу
два ведра, да не за дужки широкие, для удобства нежных городских
белоручек придуманные, а за верёвки конопляные, вместо этих самых
дужек привязанные, у неё ни сил, ни упорства не доставало.
Старуха нет бы пожалеть — клюкой стучит, требует: два ведра воды
в хозяйстве надобно, два ведра вынь ей и положь!
И вот, чуть петухи в деревне прокричали, сползла Миля с лавки,
волосы пятернёй пригладила, напялила рубище поверх джинсов и топика
и на речку поплелась, покуда бабка вредная хай не подняла.
Избёнка её на отшибе стояла, у опушки лесной. При избёнке
огородик да два сарая. Оба серы от времени, набекрень клонятся,
чуть не падают. И ни одного, между прочим, колодца. Неужто выкопать
некому? Был бы колодец, не пришлось бы Миле добрый километр по лесу
топать да под горку спускаться-спотыкаться, а потом наверх с полным
ведром пыхтеть-карабкаться.
На обратном пути километр в пять превращался, деревянное ведро
чугунной тяжестью наливалось, под ноги корни да шишки лезли,
верёвки врезались в ладони, стёртые в кровь при мойке полов. Бабка
доски с песочком скоблить велела. И никакого сочувствия Милиным
страданиям, одни насмешки: "Что за неумеху мне судьба послала! Да
обидчивую в придачу. Ты не зыркай, не зыркай, неженка-лежебока!
Слушай, что говорят, делай, что велят. После спасибо скажешь".
Утро в тот день золотое выдалось, улыбчивое. Иди, гляди по
сторонам, на берёзки белые да черёмуху пахучую, стрекозам синим
дивись, воздух пей, сочный, духовитый, да жизни радуйся. Вон и
речка показалась; телом длинным, извилистым блестит, на солнце
греется. С другого берега кусты да деревья в воду, как в зеркало,
глядятся, собой любуются и Милю приглашают: посмотри, как мы
хороши!
А только Миле красота окрестная не в счастье.
Села она на травяной бережок, на отражение своё в воде
уставилась — да пригорюнилась. И как тут не пригорюниться! На
пугало этакое без слёз не взглянешь: глаза тусклые, лицо унылое,
косметики ноль, на голове не волосы, а сена пук. Уложить-то нечем.
Парикмахерский инструмент у бабки один — гребень деревянный, такой
грубый и замызганный, что трогать лишний раз неохота.
И зеркала в избе нет. Очень Миле зеркала не хватало.
А голову мыть, страшное дело, золой приходилось. Читала Миля,
дома ещё, что полезна очень зола эта, но на всякие средства
народные, как на чудачество, смотрела. Коли щёлок да зола так
хороши, чего ради люди мыло и шампунь выдумали? Это в средневековье
дремучем, или что у них тут, цивилизованному человеку деваться
некуда. Ладно, хоть бабка в воду зольную травы добавляла, ароматные
да целебные, отчего волосы у Мили и впрямь сделались крепкие,
шелковистые, блестящие.