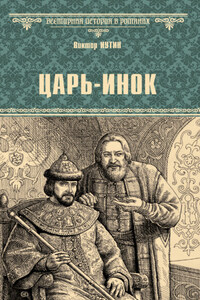Утро выдалось погожим, солнечным.
Апрельское тепло подъедало с грядок последние ломти снега, жирно
поблёскивал огородный чернозём, напитавшийся талыми водами и
первыми дождями. По уставу, садоводческому товариществу «Сибирская
Ривьера» полагалась охрана, но сторожка давно пустовала. Никто из
дачников, заглянувших накануне проведать свои владения, не остался
на ночлег, и у небывалого события, приключившегося в посёлке в этот
ранний час, не оказалось свидетелей.
В ясном воздухе из ниоткуда возник
пылевой вихрь, заревел, заклубился и, вдруг разом потеряв силу,
опал наземь белёсой кляксой. В центре кляксы обнаружился человек.
Он переминался с ноги на ногу, отряхивая с себя бледно-серый налёт,
и одежда под его пальцами на глазах менялась: плащ сизого бархата
превратился в светлый тренчкот, долгополый сюртук и панталоны — в
элегантный костюм-двойку.
Человек выбрался на дорожку между
дачными домиками, с неё — на шоссе, потопал ногами, оббивая грязь с
остроносых штиблет, пригладил мягкие каштановые кудряшки надо лбом
с изрядными залысинами и двинулся в направлении города.
***
От редакционного «форда» до калитки
было шагов десять, но двухметровый Лёша одолел это расстояние в три
прыжка, точно попадая кроссовками на утоптанные островки среди
влажного месива. Штатив на плече, в руке сумка с камерой, всё
тяжеленное, а ему хоть бы хны. Марина козочкой скакала следом,
прижимая к груди блокнот и микрофон с кое-как смотанным проводом, —
с носка на носок, чтобы каблуки-шпильки не увязли в мягкой,
прожорливой, будто трясина, почве. Надо было ботильоны на танкетке
надеть. Знала же, куда ехала!
Деревушка Сорная тонула в весенней
хляби, тоске и запустении, как при царе Горохе. Это в райцентре
кругом асфальт, есть дом детского творчества и площадь с фонтаном.
Двадцать пять километров к северу, и вот вам, пожалуйста: всей
цивилизации — облезлый сельмаг у поворота.
Улица продувалась насквозь, и Марину
в её кашемировом полупальто вмиг пробрал озноб. А хозяйка дома
выскочила за ворота в ажурной кофточке и пёстрой шёлковой юбке.
— Заходите, гости дорогие, не
стесняйтесь!
Любовь Петровна Куроловова, мать
девяти приёмных детей. Невысокая, плотная, с визгливым голосом и
грузным бюстом, колыхавшемся при каждом движении. Волосы начернены
до синевы и завиты в баранью кудель, печёные яблоки щёк тронуты
румянами, на ногах обрезанные по щиколотку резиновые сапоги в
цветочек. Опорки — всплыло в голове слово из незнакомой давней
жизни.
К дому вёл деревянный настил. Под
Лёшиной размашистой поступью доски заходили ходуном, норовя
сбросить Марину в сочную деревенскую грязь. Пришлось балансировать.
И тут на весь двор грянуло вразнобой, но многоголосо и звонко:
— Здрав-ствуй-те!
Лёша как раз посторонился, сойдя на
сухой пятачок у крыльца, и Марина увидела их — целую ораву малышей
с одинаковыми щипаными головками, в жалких обносках, будто в
арестантских робах.
Потом-то она разглядела, что роста и
возраста они разного, у мальчишек на макушках ёжик, у девочек —
хвостики, а куртки и джемперы на ребячьих фигурках имеют вполне
приличный вид. Но в память врезалась эта первая картина, как
видение из иного мира: в ореоле утреннего солнца — безликие силуэты
с тонкими цыплячьими шейками…
На крыльцо вышел усатый хозяин Вадим
Михайлович и позвал приехавших в дом.
— Раздевайтесь, разувайтесь, —
суетилась Любовь Петровна. — Сапожки оботрите и вот сюда, в
сторонку… Да чего ж вы босиком? Тапки, тапки наденьте!
В холодных сенях, застеленных
старыми половиками, тапочки стояли в три ряда. Взрослые, детские,
стоптанные, новые — целая выставка.
Первым делом Марина записала в
блокнот всех приёмышей четы Куролововых. Курносому и востроглазому
Коле — двенадцать лет, серьёзной Лизе — одиннадцать, Рае,
коренастой девице с грубым голосом — пятнадцать… Самые маленькие,
близнецы Варя и Ваня, ходили во второй класс.