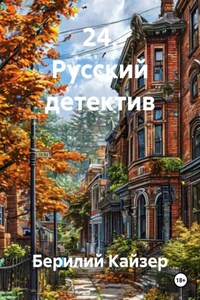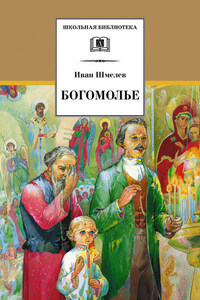Дождь был единственным постоянством в этом городе. Он приходил без приглашения, смывал грязь с тротуаров, чтобы назавтра она проступила вновь, густая и вязкая, как запекшаяся кровь. Для Элиаса дождь был звуковой стеной, серым шумом, который отгораживал его от миллионов чужих жизней, кишащих за тонкими стеклами его квартиры. Каждая капля, разбиваясь об оконный карниз, была маленьким ударом гонга, отмеряющим секунды его добровольного заточения. Он не видел этого. Он не видел ни свинцовых туч, ни неоновых вывесок, расплывающихся в мокром асфальте, ни редких прохожих, ссутулившихся под зонтами. Его мир состоял из текстур, запахов и звуков, сплетавшихся в сложную, болезненную карту реальности, которую он научился читать наощупь.
Его квартира была его коконом, его крепостью против мира. Воздух здесь был стерильным, отфильтрованным от уличной гари и миазмов чужих эмоций. Пахло старыми книгами, кожей и слабым, едва уловимым ароматом антисептика. Каждый предмет имел свое строго определенное место. Порядок был его броней. Хаос оставался за дверью. Он сидел в глубоком кожаном кресле, изношенном до трещин, которое досталось ему вместе с этой квартирой. Оно было старым, оно помнило других людей, но его память выцвела, истончилась, превратилась в едва различимый шепот, который уже не мог причинить вреда. Элиас касался его потертых подлокотников голыми руками – редкая роскошь. Это было единственное прикосновение, которое он мог себе позволить без страха.
Его пальцы, длинные и тонкие, как у музыканта, сейчас были облачены в перчатки из тончайшей оленьей кожи. Они были его второй кожей, барьером между ним и потоком чужих судеб. Даже воздух за пределами его убежища казался ему пропитанным эманациями миллионов жизней – обрывками радости, липкой паутиной страха, едким дымом ненависти. Он мог идти по улице и чувствовать фантомную боль от сломанной ноги человека, прошедшего здесь час назад, или улавливать горький привкус измены, оставшийся на перилах моста. Поэтому он не выходил. Почти никогда. Еду и все необходимое ему доставлял один и тот же курьер, пожилой мужчина, чья жизнь была простой и монотонной, как тиканье старых часов. Он всегда оставлял коробки у двери, брал оставленные для него деньги и уходил, не обменявшись ни словом. Элиас ждал десять минут, прежде чем открыть дверь, давая остаточному эху чужого присутствия рассеяться.
Сегодня тишину нарушил не знакомый стук курьера. Этот звук был другим. Резким, настойчивым, требовательным. Три удара в дверь, твердые, как удары молотка по крышке гроба. Элиас замер. Его тело напряглось, превратилось в слуховой нерв. Он слышал, как за дверью капли дождя барабанят по плотной ткани плаща. Слышал сбитое, тяжелое дыхание человека, пропитанное запахом мокрой шерсти, дешевого кофе и чего-то еще… чего-то металлического и холодного. Запах отчаяния. Он был густым, как туман, и просачивался даже сквозь толщу дубовой двери.
Элиас не сдвинулся с места. Он надеялся, что незваный гость уйдет. Но тот не уходил. Тишина за дверью давила. Она не была пустой. Она была наполнена ожиданием. Затем снова раздался стук, на этот раз громче, наглее.
«Элиас? Я знаю, что вы там. Откройте. Это полиция».
Голос был низким, прокуренным. Каждое слово несло на себе груз бессонных ночей и разочарований. Полиция. Это слово отозвалось в нем глухим, неприятным эхом. Он давно научился держаться от них подальше. Их работа – копаться в грязи, а грязь всегда оставляла следы, которые цеплялись за него, как репьи.
«Уходите», – голос Элиаса прозвучал хрипло, непривычно для его собственных ушей. Он редко им пользовался.
«Я не уйду, – ответил голос за дверью. – Мне нужна ваша помощь. Город захлебывается в крови, а мы слепы. Как вы».