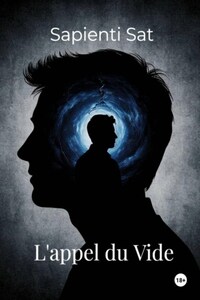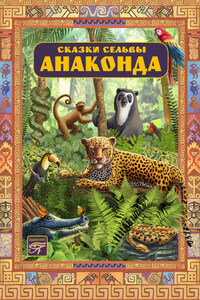Иван
По дороге катил белый старый пазик1, одним словом – колымага. Из-за грязи с обоих его боков едва виднелись надписи и синие полоски. В большие окна, наполовину занесенные пылью, невозможно было что-то разглядеть, будто приехала прямиком из сказки лягушонка на таратайке, скрипучей и рычащей на небольших поворотах.
Пазик подкатил к автостанции.
На платформе толпился народ с ведрами, сумками и сувоями2. При виде «сказочного» средства передвижения все оживились и загомонили, ринулись навстречу створкам двери, распахнувшимся словно в предсмертных конвульсиях.
К Ивану подошла старушка, тронула за локоть, доверчиво глянула прозрачными глазами.
– Твой рейс-от3, милок. Поспешай.
Иван улыбнулся и поблагодарил за подсказку, взвалил на плечо сумку и направился к пазику. Это было второе транспортное средство за сутки. Еще утром Иван выехал из Нижнего Новгорода, областного центра, сюда в Вачу, районный центр. Теперь же предстоял путь в неизвестность, в одно из селений – тихий «мелкопоместный» уголок большой страны.
Подул порывистый ветер, пробрался за ворот куртки, куснул майской холодцой до мурашек и отпустил. Из-за набежавшего облака выглянуло солнце, пригрело, приласкало теплом. Того гляди и закончится майский черемуховый холод.
Иван оплатил проезд водителю, скатал в рулон с десяток выданных билетов разной стоимости4 и примостился на дырявой дермантиново-поролоновой лавке пазика. На стенке за водителем красовался приклеенный скотчем фривольный – обычное дело в маршрутках – календарь на текущий двухтысячный год. Края из тонкой бумаги за прошедшие с Нового года четыре месяца задрались и обтрепались. Иван поморщился и отвернулся.
Дверь захлопнулась с натужным лязгом, пазик тронулся в путь.
Зазвонил телефон – совсем простенький, купленный в последний год для связи с мамой, когда она уже постоянно находилась в больнице. Молодой человек глянул на экран, нахмурился, но не ответил. На впалых скулах растеклись красные пятна, заиграли желваки. С ныне бывшей женой общаться не хотелось, а скоро вовсе не останется такой возможности. Деревня, куда лежал путь, имела только одну связь с цивилизацией – бумажные письма. Люська за несколько лет брака даже карандаш в руках не держала, а отделения почты обходила стороной, как неприличное заведение.
За окном виляла дорога: что ни поворот, то гора; «и у черта, и у бога на одном, видать, счету, ты, российская дорога – семь загибов на версту»5. Замелькали то деревенские дома, то деревья посадок в легкой дымке весенней зеленцы, то поля, раскинувшиеся вдоль дороги, то смешанные леса… Яркое майское солнышко пригревало сквозь окно. Попутчики разместились в салоне и притихли, только из хвоста автобуса слышалась веселая трескотня женщин. Иван почувствовал, как постепенно расслабляются руки, до боли впившиеся в лямки сумки. Размял пальцы, главный его рабочий инструмент, положил на колени. «Все прошло, и это пройдет», – повторял он про себя как молитву. Только пока ничего не проходило. Заиндевело в душе, ледяной крошкой похрустывало на сердце, ранило острыми краями. Видеть и слышать Люську не хотелось. Злился. И на нее, и на себя. А Люська – дура. Ушлая6, глупая. Нет, не глупая, зря он. Недалекая бы не полезла в бутылку, не брала бы чужое, а эта… Чужое ведь еще и стянуть нужно так, чтобы никто не заметил, а заметил – сделать ничего не смог. Теперь все спущено в выгребную яму. Пусть живет как хочет. И он жить будет. Жаль не стереть белую полоску от кольца на безымянном пальце, не вытравить из привычек проверять побрякушку, уже сданную в ломбард за бесценок.