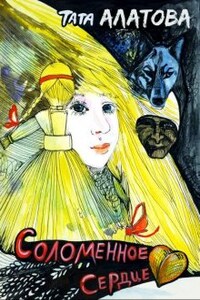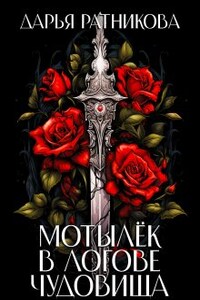Она была так стара, что давно потеряла счет времени.
Здесь, в крохотной избушке посреди густого леса, оно давно
перестало течь, как положено, а капало еле-еле, с каждым днем все
более замедляясь.
Одно несомненно: она была куда старше этого мира и все еще
помнила, как однажды все сущее вылупилось из яйца и какая чехарда
началась после.
Позади было многое: восемь мужей и двадцать семь детей, а уж
внуков с правнуками и вовсе не счесть.
Сейчас ее разум угасал, а тело становилось все более дряхлым. Не
хватало сил встать и смахнуть паутину, не хватало желания жить.
Она просто лежала на остывшей печи и ждала, когда все наконец
завершится — безобразная слабая старуха, ни о чем не жалеющая.
Умирать было довольно скучно, и ее терпение истончалось.
Маленькая соломенная кукла тихо напевала ей колыбельные, ей
вторила вьюга за тонкими стенами, а вой волков звучал
похоронно.
И грохот распахнувшейся двери показался громовым.
Ненужным.
Лишним.
Кряхтя и морщась, она повернула голову, чтобы увидеть незваного
гостя.
Он тоже умирал, какое совпадение.
Кровь струилась по его лицу и телу, пахло волками и
отчаянием.
Шаг, другой — и человек рухнул прямо посреди ее избушки, лицом
вниз, страшные раны на спине, изорванная в лоскуты одежда.
Она давно научилась смирению и сейчас не собиралась роптать.
Заставила себя сесть, откинула назад серые грязные космы,
спустила худые ноги на пол.
Прошаркала валенками, безотчетно сжимая в руках соломенную
куколку, которая все напевала и напевала, ибо ничего другого не
умела.
Склонилась над человеком, с трудом перевернула его, протерла
соломой лицо, смывая кровь.
Совсем еще мальчик.
Тот, кто заберет последние крохи ее сил, прощальный подарок
судьбы — наконец-то она сможет покинуть этот мир.
И, склонившись над бесчувственным телом, безобразная старуха
нежно поцеловала гостя в лоб, отдавая ему все, что у нее
осталось.
Авось и выживет.
***
Пот древней старухи, кровь молодого мужчины, слюна волков и
солома: так я пришла в этот мир.
Прежде у меня был только голос. Сейчас у меня появилось тело —
большое, человеческое, плотное, нелепое. Я не умела им
пользоваться, я не знала, как оно работает.
Сделала шаг — упала. Подняла руки, посмотрела на них.
У старухи они были дряблые, покрытые морщинами и пятнами. А у
меня — белые, тонкие, гладкие. Волосы падали на лицо — не серые,
как у нее, а соломенные, светлые.
В хижине было холодно, и я впервые поняла, каково это.
Замерзла.
Передвинувшись по полу, стянула с мертвой хозяйки длинную
лохматую телогрейку. Закуталась.
Человек лежал рядом. Дышал.
Вот как, значит, выглядят другие лица.
С трудом поднялась.
Нашла в углу немного дров. Руки плохо слушались, разжечь огонь
удалось не сразу. Вспыхнувшее пламя напугало меня: вот что такое
страх.
Закрыла дверь. Волки выли, но я знала, что меня они не
тронут.
Я чувствовала их, а они — меня. Мы были меньше, чем стаей, но
понимали друг друга.
Оглянулась на два тела на полу.
Опустилась перед незнакомцем на колени, положила ладони на
бледное лицо.
Запела колыбельную.
Что я еще умела?
Пять лет спустя
— Поля-Поленька-Полюшка! По-о-о-оле-е-е-енька-а-а-а-а.
Голоса кружились вокруг нее, звали к себе, меняли интонации,
подбирали ту самую, на которую она обязательно отзовется.
Такое уж это было место, Гиблый перевал. Никому не удавалось
удержаться и не шагнуть в пропасть. Никому, кроме нее.
Поля вела грузовую фуру медленно, серпантин был узким, а горы
нависали так низко, что едва не царапали крышу кузова. Привычно
сосредоточившись на дороге, она мурлыкала колыбельные себе под нос,
не особо прислушиваясь к зову духов, которые без устали все
прощупывали и прощупывали ее воспоминания, чтобы найти самого
родного, самого любимого человека и заговорить его голосом. Но все
их попытки были тщетны: за пять лет человеческой жизни Поля так и
не испытала серьезных привязанностей и порой ощущала, что ее сердце
все еще набито соломой.