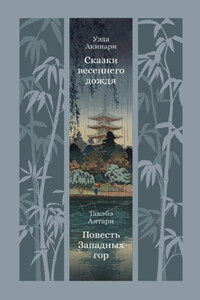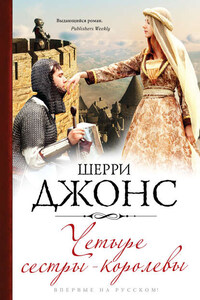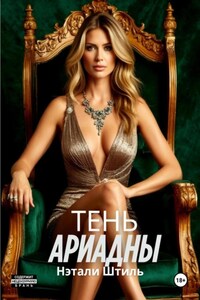– Да как вы смеете произносить подобное! Прочь! Немедля прочь! – гнев архиепископа был столь силён, что, казалось, даже каменные своды дрогнули от его голоса. Его лицо, обрамлённое седыми кудрями, налившееся багрянцем, напоминало в ту минуту не строгого пастыря, но рассерженного старика, едва способного держать себя в руках. Под тяжёлыми веками блестели глаза, в которых не оставалось ни капли милосердия, а складки на его подбородке дрожали от ярости.
Я стоял перед ним, высокий и худой, с сутаной, чёрной, как сама ночь, ниспадавшей до пола. Волосы мои, тёмные, но уже тронутые серебром у висков, были зачёсаны назад; на бледном лице, измождённом молитвами и бессонными ночами, выделялись глаза – глубоко посаженные, чёрные, как колодцы, в коих отражалась не вера, но усталость от истины. На груди моей висел крест с семью звёздами, его холод особенно жёг кожу.
– Как будет угодно вашему преосвященству, – произнёс я, склонив голову.
Я развернулся и пошёл прочь. Тяжёлые двери зала Святого Августина захлопнулись за моей спиной с гулом, напомнившим больше удар молота по гробовой крышке, нежели окончание собрания. В полумраке коридора меня встретил холодный воздух, пропитанный воском и сыростью. Витражи, окрашенные закатным светом, представлялись мне искажёнными лицами святых, глядевших на меня с укором.
У выхода стоял молодой секретарь, строгий и бледный, с безупречно выбритым лицом. В руках его находился конверт с печатью, красной, как кровь.
– Отец Вейл, – сказал он с холодной учтивостью, – решением Высокого церковного суда вы освобождаетесь от служения в Лондоне и отныне назначаетесь в город Йорк.
Я не сразу протянул руку. В словах его слышался холод приговора.
– Изгнание, – произнёс я.
– Назначение, – поправил он, но глаза его невольно выдали истину.
Я взял письмо и спрятал его в складках сутаны. Крест с семью звёздами, висящий на моей груди, показался в тот миг тяжелее свинца. Я ощущал его каждой клеточкой своего тела.
Когда я вышел на улицу, Лондон встретил меня своим привычным шумом: звон колокольчиков трамваев, крики газетчиков, топот копыт и гул моторов. Люди спешили по делам, не подозревая, что один из священников их города только что был предан суду собственной Церковью. И всё же я почувствовал то, чего они не могли ощутить: внезапный холод, пробежавший вдоль улицы, и запах гнили, тонкий, но несомненный. Я остановился и всмотрелся в толпу. Лица прохожих были заняты житейскими заботами, но за ними, в тени, я уже различал иное присутствие.
Дом мой был столь же непритязателен, сколь и чужд теплу. Небольшая постройка в два окна, притулившаяся у серой каменной стены, не имела в себе ничего примечательного; его можно было принять за домик приходского сторожа или учителя. Когда я открыл дверь, мне навстречу пахнуло застоявшимся воздухом, смесью холодного угля, свечного воска и старых книг, переполненных пылью.
Я прошёл в комнату. Всё здесь напоминало не жилище, а временное пристанище. На столе лежали раскрытые книги – Евангелие на латыни, сборник псалмов и два тома, которые Церковь сочла бы неблагонадёжными: «Ключ Соломона» и потрёпанное немецкое издание о демонах Верхней Саксонии. Чернильница покрылась коркой, перо засохло в ней, словно свидетель, которому запечатали уста.
На узкой кровати, застланной шерстяным одеялом, висел мой плащ – старый, с заплатой на локте, пропитанный дождями фронта и запахом дыма. Под кроватью стояла кожаная сумка, настолько ветхая, что казалась ровесницей мне самому.
Я стал собирать вещи без промедления. Пара рубашек, шерстяные носки, немного белья, книга молитв и старый нож, подаренный офицером ещё под Ипром. Всё это поместилось в сумку, словно напоминание: человеческая жизнь может улечься в одно хлипкое вместилище. Двадцати минут оказалось достаточно, чтобы стереть следы моего пребывания здесь.