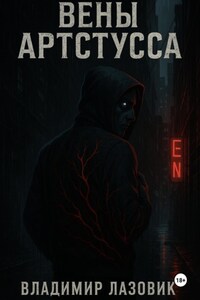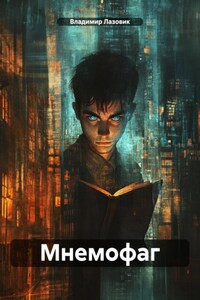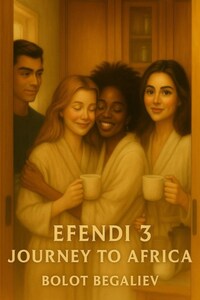Курсор пульсировал на экране, как нерв на оголенном зубе. Ровный, безжалостный, беззвучный метроном, отмеряющий секунды ее ничтожности. Вера смотрела на него, не моргая, пока буквы перед глазами не расплылись в серый мох. Пальцы, застывшие над клавиатурой, ощущали липкое, надышанное тепло пластика.
Она забыла вспомнить, что когда-то любила.
Строчка висела на белом поле документа, словно пришпиленная энтомологом бабочка с обломанными крыльями. Красиво. Претенциозно. И до тошноты мертво. Сухая выжимка из чужих романов, фальшивая монета, отчеканенная для слепых оценщиков.
– Тьфу, бредятина, – выдохнула Вера в спертый воздух комнаты.
Ее палец, как по команде, нашел прохладную гладь клавиши Backspace и принялся методично, с сухим клацаньем, пожирать букву за буквой. Она стирала не просто слова. Она стирала саму себя, ту версию, что соглашалась на эту ложь, на эту вымученную позу.
Что я делаю? Мысль была не новой, но сегодня она ощущалась особенно острой, как осколок стекла под кожей. Пишу то, чего не хочу. Леплю уродцев из чужого теста, лишь бы протолкнуть их на очередной конкурс, лишь бы бледная тень чужого признания упала на мое имя. От собственных мыслей, от этого внутреннего торгашества уже сводило скулы. Когда же? Когда я смогу писать не для того, чтобы меня заметили, а потому что не могу молчать? Когда слова снова станут не инструментом, а продолжением крови?
Комната, ее кокон, ее склеп для нерожденных историй, отвечала ей густым молчанием. Это была не квартира, а архив упадка. Воздух, плотный и вязкий, пах вчерашним остывшим кофе и призраком пыли, слежавшейся в углах. Свет от единственной лампы, болезненно-желтый, выхватывал из полумрака позвонки книжных стопок, громоздившихся на полу, на подоконнике, на стуле. Они были похожи не на источник мудрости, а на надгробия тех авторов, что смогли. Тех, кто не торговался.
Стены, оклеенные обоями неопределенного, выцветшего цвета, казалось, впитали в себя все ее вздохи, все невысказанные фразы. Где-то за ними текла другая, настоящая жизнь – с голосами соседей, с гулом машин, – но сюда она доносилась лишь глухим, едва различимым эхом. Здесь единственной музыкой был гул старого холодильника и шелест ее собственного дыхания.
Вера откинулась на спинку стула. Его скрип прозвучал оглушительно. Она провела рукой по шершавой поверхности стола, ощутив под пальцами крошки и крупинки бумажной трухи. Ее взгляд упал на город за окном. Он был там, огромный, равнодушный, переливался огнями, как чешуя гигантской рыбы, но Вера чувствовала себя отделенной от него невидимой, непробиваемой мембраной. Она была не жителем, а профессиональным наблюдателем, подглядывающим в щель.
И снова взгляд вернулся к монитору. К пустоте, на которой снова начал свой безжалостный танец одинокий курсор. Пустота была честнее. Честнее, чем любая строчка, которую она могла бы сейчас написать.
Пустота на экране была честным зеркалом. В нем отражалась не комната, а сама суть ее положения, застывшего, как насекомое в янтаре. Конкурсы. Это слово имело для нее привкус аптечной микстуры – горькой, но необходимой для выживания. Она представляла их как огромный, безликий механизм, сверкающий хромированными деталями и неоновыми вывесками с заманчивыми названиями: «Новая волна романтики», «Золотое перо любви», «Кровавая луна». Бездушные ярмарки тщеславия, где издатели, словно фермеры на рынке, выискивали не самый диковинный фрукт, а самую стандартную, ходкую картошку, которая гарантированно продастся.
И Вера, сцепив зубы, выращивала эту картошку.
Сейчас на ее жестком диске умирал в муках черновик под названием «Поцелуй вечности». Главный герой – вампир Аларик, разумеется, с глазами цвета грозового неба и многовековой скорбью во взгляде. Героиня – неловкая, но очаровательная студентка-искусствовед, которая, конечно же, видит в нем не монстра, а страдающую душу. Их диалоги были выверены до скрипа, пропитаны сахарным сиропом предсказуемости. Она знала, что нужно жюри. Нужен легко узнаваемый каркас, на который можно навесить пару-тройку «оригинальных» деталей – пусть вампир, к примеру, цитирует не Байрона, а Рембо, а героиня увлекается не живописью, а таксидермией. Но скелет оставался неизменным. Это была не литература, а сборка мебели из Икеи по инструкции.