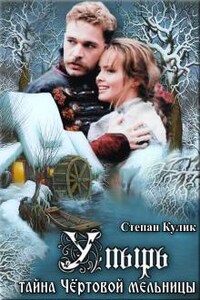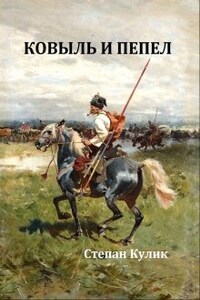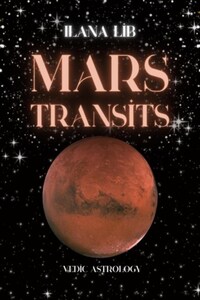Моей
жене Инге посвящаю.
На
вечную память...
C благодарностью за
все.
Метелица ходила вокруг с самого
рассвета.
Дым, который уже пять дней
полупрозрачным маревом дрожал над трубой, отяжелел, поседел и лег,
словно хотел поклониться Татарской могиле или приветствовать восход
солнца. А оно — бледное и по-зимнему немощное, словно стесняясь
своего бессилия, лишь изредка проглядывало сквозь серую пелену.
Маричка еще и коровы не выдоила и не
задала скотине сена, как редкие тучи скопились, затянули всё небо
толстой периной, а потом сыпанули легким, невесомым пухом. Но не
искрящимся, как на морозный, солнечный день, — сероватым. Словно
наверху уже начали предпраздничную уборку и выбивали из пуховиков
осеннюю пыль…
Снежинки не торопились ложиться на
старый наст, слетали вниз медленно, вяло, подолгу кружа в воздухе,
навевая на новый день зимнюю лень и дрему. От этого даже куры, с
радостным утренним гамом вылетев из курятника, довольно быстро
угомонились и сидели по углам, распушив перья, округлыми, пестрыми
кучками. Лишь молодой долговязый петух гордо расхаживал по двору,
то ли красуясь перед своим гаремом, то ли не теряя надежды найти
среди растущих сугробов какую пищу.
Маричка в неполных двадцать еще не
имела такого жизненного опыта, как столетний дед Карпо, или
«вечная» баба Параска — знахарка из соседних Волчух, сухая и
согнутая в дугу, словно кто-то хотел сделать из нее полоз к саням.
Но догадаться, что такое изменение погоды не предвещает ничего
хорошего, не велика наука и для молодежи.
В конце концов и на ее памяти уже
было похожее. Лет десять назад… Тоже так крутило, вертело, а потом
как сыпануло — до утра только дымоходы из снежных заносов торчали.
Детям радость и забава, а взрослым пришлось попреть. Прокапывая
ходы к хлевам и конюшням. А кто ленивее и на оттепель надеялся, те
сквозь крыши на хаты вылезали и так же через стрехи к скоту
заползали… Одно хорошо — в таких сугробах никакой мороз не
страшен.
Молодая женщина вернулась в хлев,
забросила еще сена за полудрабки, щедро сыпанула на пол курятника
отрубей и плотнее закрыла отдушину. Потом принесла из дома два
ведра нагретой воды и хорошо напоила корову, а в ограду овцам
бросила лишнюю корзину свеклы.
Когда справилась со всем этим, снег
уже падал хлопьями. Спокойный и хозяйственный. Он тщательно выбирал
место, где лечь, указывая, что пришел надолго. Не только покрывая
землю рыхлым пуховиком, но и отрезая хутор казака Оробца от
остального мира непроницаемой белой стеной.
Оно, к примеру, и в хороший день, со
двора Оробцов не было видно соседских домов. Только выгнав конем на
Турецкую могилу, которая торчала, как шишка на лбу, в какой-то
версте от хутора, удалось бы разглядеть на западе крайние крыши
села Кривые Макогоны, а на севере — чуть больше и богаче — дома
Приозерного. А еще, если поспеть ко времени, то с кургана удавалось
поймать блики на макушках Спасо-Преображенського храма в Смеле.
Однажды Андрей, в праздник и под
хорошее настроение, посадил молодую жену на коня и вывез на курган
перед самым закатом. И когда оно уже почти касалось горизонта, на
северо-восточной стороне будто костер зажгли. Некоторое время этот
отблеск был оранжевым, ярким, потом покраснел, поблек — а там и
вовсе исчез, словно пеплом жар затянуло. А вместе с этим на степь
легли вечерние сумерки… Потому что и солнце, пока Маричка
любовалась чудом, тоже скатилось на покой.
Это была самая сладкая ночь.
Воспоминание о которой до сих пор вызывало истому в груди молодицы.
И горькие слезы… Прошла Пасха, Андрей отправился в сотню и больше
не вернулся. Впоследствии на хутор заехали двое его товарищей,
привезли вещи мужа и поведали, что пропал казак в бою. Мертвым его
не видели, но и живого не нашли. Рубились с басурманами ночью, на
берегу Днепра… Не один тяжело раненный, упав в реку, нашел смерть в
бурных водах. Наверное, и Андрея такая участь постигла.