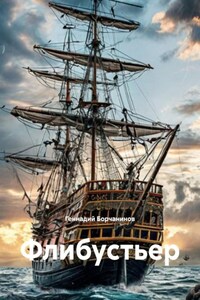Был холодный, ноябрьский день. Моросил дождь, превращавший улицы в мокрые зеркала. По скользкой мостовой торопливо шагал худой паренек лет шестнадцати. Его тонкое осеннее пальто, явно не предназначенное для такой погоды, промокло насквозь и липло к плечам. Старые кроссовки, давно прохудившиеся, с каждым шагом хлюпали водой – громко, настолько, будто кричали о его бедности всей улице.
Мальчик брел на окраину города – туда, где они с матерью ютились в крохотной комнатенке общежития. Их жизнь была беспросветной, как ноябрьские сумерки. Мать сгибалась за станком на заводе штамповщицей, а в выходные и праздники – мыла горы ресторанной посуды. Туда ее зазывала сестра, спасая от голода:
– Приходи, когда банкеты – хоть объешься объедками.
Те редкие дни, когда мать мыла посуду, становились для них праздником.
Она пробиралась между поварами и официантами, пряча в складках фартука то, что другие считали объедками: на Новый год – толстую палку копченой колбасы, блестящую от жира, и банку икры с оторванной этикеткой.
К восьмому марта – ломтик лосося, пахнущий лимоном и укропом, и половину фирменного торта, будто кто-то свыше сжалился и оставил им ровно столько, чтобы вспомнить вкус счастья.
Они ели молча, медленно, растягивая эти моменты. На несколько дней в их комнате пахло богатством, а в желудке переставало сосать от голода.
Его звали Николай.
Обычный десятиклассник днем – по вечерам он становился одержимым музыкантом. В музыкальной школе его называли вундеркиндом фортепианного класса, но сам он мечтал о большем – стать не просто пианистом, а творцом. В тетрадях между задачками по алгебре теснились нотные знаки – это были его первые, еще робкие сочинения.
Их дом хранил чудо – потрепанный черный рояль. Мать выцарапала эту победу у судьбы: два месяца она ходила к старику на блошиный рынок как на исповедь, принося скудные суммы.
– Подождите еще неделю, – шептала она, разглядывая треснувший лак инструмента, будто видела в нем спасение сына. В последний день, когда не хватило трети цены, старик махнул рукой:
– Забирайте, видно, вам он нужнее.
Рояль фальшивил на верхних октавах, но для Николая это был самый совершенный инструмент в мире. Когда его пальцы касались клавиш, комната в общежитии превращалась в концертный зал.
Николай видел это.
Видел, как мать опускала глаза, когда старик ковырял грязными ногтями ее потрепанные купюры. Как ее пальцы дрожали, отсчитывая последние деньги, а в голосе звенела фальшивая бодрость:
– Вот еще немного, скоро соберем всю сумму!
Стыд жег его изнутри. Он был почти взрослым, но не мог защитить даже ее гордость.
Поэтому после уроков он бежал не к роялю, а в тот самый ресторан – играть марши для пьяных свадеб и юбилеев. Те же повара, что бросали матери объедки, теперь шлепали его по плечу:
– Эй, вундеркинд, сыграй что-нибудь веселенькое!
Они выживали. Но иногда, когда Николай видел, как мать гладит рояль (ее руки все еще пахли моющим средством), он понимал – это не просто выживание. Это была война за мечту, и рояль – их единственный трофей.
Школа стала для Николая ежедневным адом.
Три фигуры неизменно преследовали его: Митька Исаев с хищной ухмылкой, Костя Бобров, чьи кулаки работали как молоты, и Максим Иванов – холодный стратег этой травли. Они были небожителями школьного пантеона – в кроссовках за ползарплаты матери, с телефонами последней модели, которые менялись у них чаще, чем тетради.
Тот день запомнился особенно. Когда его тетради с нотами – целый месяц работы над сонатой – полетели в ноябрьскую лужу, Николай увидел, как чернила расплываются, словно кровь из порезанной вены.
А его телефон… старый «кирпичик», который мать чинила уже третий раз, платя за ремонт цену двухдневного голода. Митька специально бросал его на пол, наслаждаясь звуком трескающегося пластика – для него это была игра, для Николая – еще один гвоздь в гроб его достоинства.