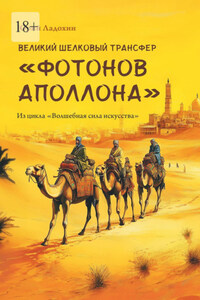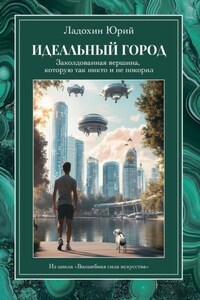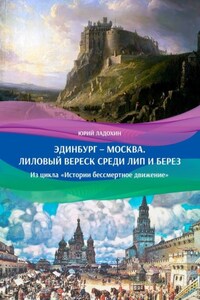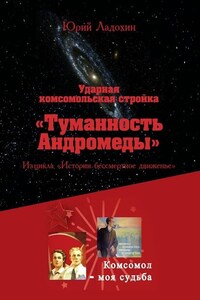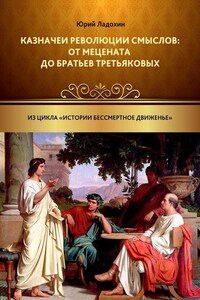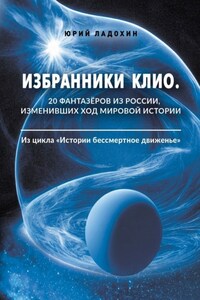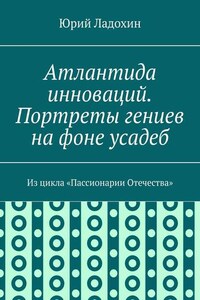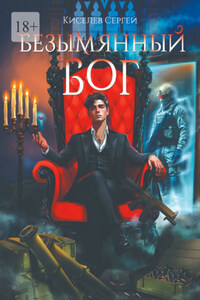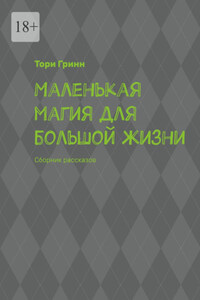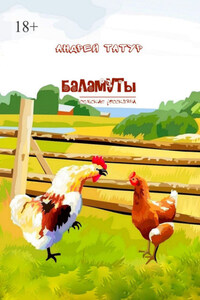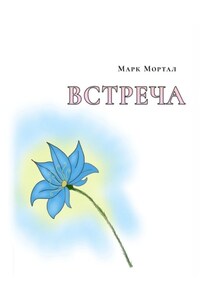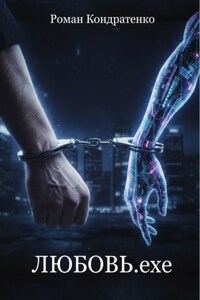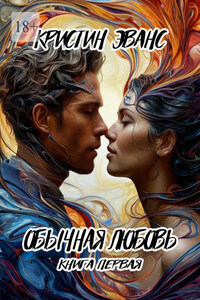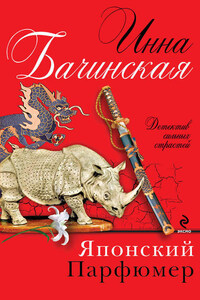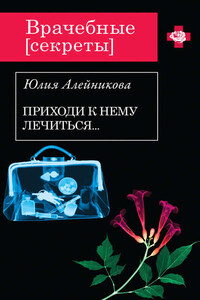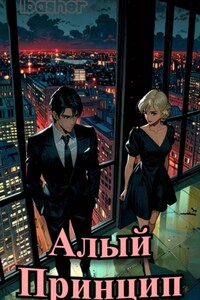В одной из своих предыдущих книг – «Эдинбург – Москва. Лиловый вереск среди лип и берез» (2021 г.) – о великих изобретателях, ученых, служителях 9-ти муз России и Шотландии я задавался воросом: а могут ли встречные вихри пассионарной энергии быть настольно мощными, чтобы оказать влияние на ход мировой истории? Чтобы ответ получился недвусмысленно положительным, всмотримся только в список имен, участвующих в этих турбулентных процессах. С шотландской стороны: ученые Я. Брюс и Р. Мурчисон, промышленники Ф. Гарднер и Ч. Берд, полководец М. Барклай-де-Толли, архитектор Ч. Камерон, антрепренёр М. Меддокс, с российской: художники К. Малевич, В. Кандинский и Э. Лисицкий, режиссеры К. Станиславский и С. Эйзенштейн, композитор И. Стравинский, антрепренёр С. Дягилев.
И хотя такой обмен вдохновляющих дерзаний происходил в разные хронологические периоды (пассионарии из Шотландии несли в Россию светозарный эфир просвещения, начиная со времен Ивана Грозного, а представители русского авангарда поразили мир обжигающими выбросами смысловых протуберанцев уже в первой четверти ХХ века), вывод напрашивается один: такой взаимообогащающий бартер научными идеями, инженерными и бизнес-новациями, эстетическими прорывами несет в себе животворящий вектор прогресса человеческой цивилизации.
В новой книге, которая предлагается вашему вниманию, оптика рассмотрения пассионарных вихрей будет сужена до одного (но КАКОГО!) —феноменального по своей значимости ветроворота культурных обменов между Китаем и Европой, происходивших на верблюжьих тропах и лоцманских морских маршрутах Великового шелковой пути.
Этот поразительный по своей сущности трансфер эстетическими жемчужинами – «фотонами покровителя искусств Аполлона» – тем более уникален, что разделённые высоченными Гималаями и песками Средней Азии две великие цивилизации были отчаяннно несхожи в своих представлениях о значимости тех или иных культурных ценностей. Да какое там «несхожи»! – менталитеты двух социумов были настолько ортогональны друг другу, словно на знаменитом Кордуанском маяке во Франции установили эффективнейшую линзу Огюстена Френеля, но ограничили диапазон ее действия 180 градусами – только для своих джонок или каравелл.
Так, в традиционном Китае «литературное искусство, культивируемое политически влиятельной литературной элитой, занимало высшие ступени иерархии в культурном сообществе. На вершине стояла каллиграфия, за которой следовала живопись. Другие виды искусства, которые традиционно считались ремеслами, также приобрели престиж, поскольку они привлекли внимание литераторов во времена династии Мин (1368—1644). Среди них были вырезание печатей, книжная иллюстрация, изготовление гравюр и дизайн садово-паркового искусства. И, напротив, архитектура, скульптура и прикладное искусство – керамика, бронза, лак и мебель – никогда не достигали сопоставимого статуса» (из статьи Цинь Гои «Коллекционирование предметов искусства Китая в Англии в XIX веке» // электронный журнал Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина «Артикульт», №47, 2022 г.).
Не то Европа, например, Англия: «В Европе архитектура, которую величают как не иначе „мать искусств“, с древности занимала самое престижное положение, за ней следовали скульптура и живопись и, наконец, прикладное и декоративно-прикладное искусство. Важно отметить, что влияние китайского искусства на искусство Англии зависело от их положения в соответствующих иерархиях: чем выше статус искусства в Китае, тем меньшее влияние оно оказывало в Англии и, в целом, в Европе; и чем выше статус искусства в Англии, тем меньше восприимчива она была к китайскому влиянию»