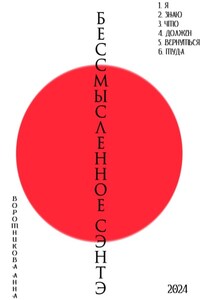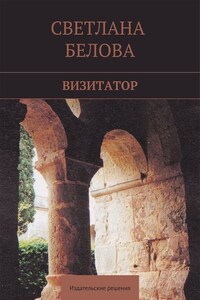Утро цеплялось за верхушки сосен туманными, рваными клочьями, когда Ратибор бесшумно выскользнул из своей избы. Воздух был плотным и влажным, пах прелой листвой, сырой землей и обещанием прохладного дня. Его деревня, приютившаяся у кромки векового бора, еще спала. Лишь в нескольких дворах лениво курились дымки над крышами, да одинокий петух пробовал голос, неуверенно и сипло.
Дом Ратибора стоял на отшибе, последним на пути к лесу, словно и сам был частью его. Небольшой, ладно срубленный из крепких бревен еще его отцом, он хранил тишину и одиночество своего хозяина. Ратибору едва минуло двадцать зим, но во взгляде его ясных, цвета лесного ореха, глаз таилась серьезность не по годам. Высокий, широкоплечий, с волосами цвета спелой ржи, стянутыми на затылке кожаным ремешком, он двигался с плавной, хищной грацией зверя, для которого лес был настоящим домом.
Он не помнил отца во всей его силе, лишь обрывки воспоминаний: сильные, мозолистые руки, держащие его на коне, зычный смех и тяжесть боевого топора у пояса. Отец был дружинником у киевского князя, человеком чести и стали, и не вернулся из очередного похода в степь, оставшись там под безымянным курганом. Мать, тихая и нежная, как лесная фиалка, угасла через несколько лет после этого, сгубила ее хворь, против которой были бессильны все травы и заговоры. С тех пор Ратибор остался один. Деревня жалела его, но не лезла в душу, видя, что парень справляется сам.
Он жил охотой. Лес кормил его, одевал и давал возможность заработать на торге ту монету, что была нужна для соли, железа и редких выездов в Киев.
Закинув за спину длинный тисовый лук и колчан со стрелами, Ратибор проверил у пояса охотничий нож. Он не шел вслепую. Еще вчера вечером он нашел свежий след крупного оленя. Такая добыча – это не только мясо на несколько недель, но и отличная шкура, которую можно выгодно продать в городе.
Лес принял его, как своего. Под ногами мягко пружинил мох, ветви расступались, словно по его воле. Ратибор читал следы так же легко, как жрец – руны. Вот здесь олень объедал молодые побеги, тут остановился попить из ручья, а вот здесь, спугнутый чем-то, прыгнул в сторону, оставив глубокие отпечатки копыт на влажной земле. Этому его учил отец, и эти уроки впитались в его кровь, стали инстинктом.
Но в последнее время к этим инстинктам примешивалось что-то еще. Что-то странное, чему он не мог найти названия. Иногда лес замолкал так внезапно, что в ушах начинало звенеть. Воздух становился густым, почти осязаемым, и Ратибору казалось, что на него смотрят сотни невидимых глаз. Он слышал шепот, когда не было ветра, и видел краем глаза движение там, где его быть не могло.
Он гнал от себя эти мысли, списывая на усталость и одиночество. Но сегодня это чувство было особенно сильным.
След привел его в старый, заросший ельник, где солнечный свет едва пробивался сквозь густые лапы, ложась на землю редкими, дрожащими пятнами. Здесь царил полумрак и та самая звенящая тишина. И вдруг он увидел его. Впереди, в небольшом солнечном круге, стоял олень. Величественный, с ветвистыми рогами, он был словно вылит из бронзы в лучах утреннего света.
Ратибор замер, медленно, без единого звука, поднимая лук. Он наложил стрелу, оттянул тетиву до уха. Мышцы напряглись, палец замер на тетиве. Идеальный выстрел.
И в этот момент мир изменился.
Это было не похоже ни на что, виденное им прежде. Солнечные лучи, пронзавшие полумрак, вдруг загустели, сплетаясь в мерцающие, полупрозрачные нити. Воздух вокруг оленя затрепетал, и Ратибор увидел то, что невозможно было увидеть. От могучего тела зверя исходило слабое, теплое, золотистое сияние, похожее на марево над раскаленными углями. А вокруг, прислонившись к стволам вековых елей, стояли они.