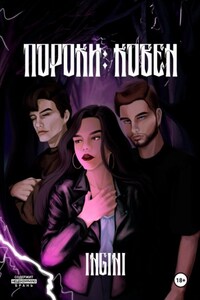Бывают моменты, когда ткань мира истончается, как папиросная бумага перед пламенем свечи. В эти щели, в эти мгновения хрупкого равновесия, смотрит на нас сама Судьба – не грозная богиня, а скорее усталый архивариус, листающий пожелтевшие карты давно минувших бурь. И мы, путники, заблудившиеся в собственных жизнях, стоим на пороге таких щелей, даже не подозревая, что следующий шаг, жест, взгляд, решат не только наше завтра, но и отольют в граните чью-то чужую вечность. Человек – существо, сплетенное из противоречий: он жаждет покоя, но рожден для бури; он ищет света, но носит в себе бездну, куда не проникает ни один луч. И именно на этом вечном перекрестке желаний и долга, эгоизма и жертвы, разворачивается драма, имя которой – жизнь. А иногда – смерть, ставшая началом.
Дождь. Он стучал по крыше огромного госпиталя «Милосердие» не каплями, а целыми кулаками озлобленной стихии. Свинцовое небо Санкт-Петербурга в этот поздний вечер казалось низким потолком тюремной камеры, из которой нет выхода. В свете уличных фонарей, пробивающемся сквозь водяную пелену, мокрый асфальт блестел, как чешуя гигантской черной рыбы, ушедшей на глубину. Внутри, в стерильном царстве белых стен и резкого запаха антисептика, царила своя, отлаженная до автоматизма, буря.
Марк Долвинов стоял у высокого окна в ординаторской на шестом этаже, отделенном от операционных блоков лишь звуконепроницаемой дверью. Его лицо, обычно выражавшее сосредоточенную уверенность, сейчас было маской усталости. Не физической – тело, закаленное годами бесконечных смен и сложнейших операций, еще держалось. Это была усталость души, вымотанной до дна. Он смотрел не на дождь, а сквозь него, в какую-то точку в темноте, где, казалось, плавились все его сомнения и разочарования. Пальцы его левой руки непроизвольно сжимали и разжимали воображаемый хирургический инструмент – нервная привычка, оставшаяся после последней, изматывающей восьмичасовой операции на опухоли ствола мозга. Операция прошла «успешно» – опухоль удалена, жизненные показатели стабильны. Но Марк знал цену этому «успеху». Знавал девочку, которая после такой же победы над болезнью так и не узнала свою мать. Знавал парня, чьи руки, ловкие руки скрипача, навсегда замерли в беспомощности.
«Мы чиним тела, доктор Долвинов, – сказал ему как-то старый профессор неврологии, его наставник, незадолго до смерти. – Как механики чинят сложные машины. Но кто починит душу? Кто вправит вывихнувшуюся совесть? Кто остановит внутреннее кровотечение отчаяния?»
Марк тогда не понял до конца. Теперь эти слова звенели в его ушах громче сигналов мониторов. Он видел, как деньги и связи извилистыми змеями проползали мимо очередей на дорогостоящие операции, как безнадежность застывала в глазах тех, кому он не мог помочь не из-за неумения, а из-за жестокой арифметики системы. Чувство всемогущества, которое когда-то дарила профессия, таяло, как лед под солнцем предательства, оставляя после себя холодную, скользкую пустоту.
– Доктор Долвинов? – Голос медсестры Анны, тихий, но отчетливый, вырвал его из мрачных раздумий. Она стояла в дверях, ее лицо под белой шапочкой было серьезным, но не паническим. Анна была как скала – надежная, непоколебимая в хаосе отделения.
– Что случилось, Анна? – Марк обернулся, мгновенно переключившись. Усталость спряталась глубоко внутрь, уступив место профессиональному тонусу. Это был рефлекс, вторая натура.
– Масштабное ДТП на Крестовском мосту. Двое пострадавших. Скорые везут. Тяжелый случай – водитель грузовика, множественные травмы, вероятно, проникающее ранение брюшной полости, подозрение на внутреннее кровотечение. Молодой парень в легковушке – контузия, вероятно, переломы, но стабилен. Прибудут через пять минут. Вас просят на грузовика. Хирург на месте заподозрил повреждение селезенки.