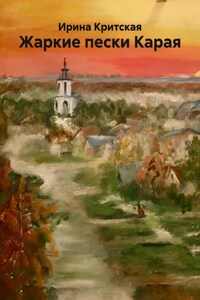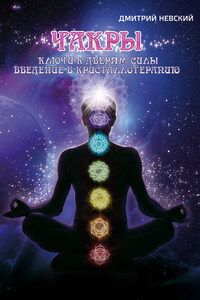-– Чудушко, детка… Ты куда спряталась, дочушка, давай-ка домой, помоги папке. Гостья у нас. Алееенушка…
Голос отца был ласковым, впрочем Аленка никогда и не слышала его другим, сколько она себя помнила, добрее ее папы не было на свете. Но она этим и пользовалась, на нее находило иногда упрямство – нет и все! Вот и сейчас, услышав голос отца, она соскользнула с нагретого солнцем камня, наполовину утонувшего в теплой воде залива, тихонько, стараясь не шлепать босыми ногами пробралась к берегу, ящеркой шмыгнула было к иве, опустившей до самого песка свои грустные ветви, решив спрятаться под ее шатром, но не успела. Отец, как медведь, прохрустел сухими ветками в терновых зарослях, и высунул седоватую бороду, а потом вылез весь, сердито шевеля косматыми бровями.
– Здесь опять, озорница! Вечор тебе наказывал не ходить одной на реку, а ты прям в воду. Вот, теля бестолковая, неровен час соскользнешь, да в быстрину, а там омуты. Я что тогда делать-то буду? Алена! Поди сюда!
Аленушка неохотно раздвинула ветви, вышла на песок, сморщила конопатый носик, но к отцу пошла, послушалась.
– Я, батя, в воду-то не лезу. Я на камушке грелась. Там знаешь, как рыбки вертятся, прямо карусель, как на базаре. Смешно!
Алексей, кряхтя (уж очень болели кости сегодня, не иначе на дождик, вон оно небо, как насупонилось, аж черно за рекой) подошел к дочери, собрал рассыпавшиеся по худеньким плечам густые пшеничные пряди, покачал головой.
– Опять волосья распустила, балованная стала. Лента где твоя? По деревне пойдешь так, бабы потом языки стешут. Дай, повяжу.
Аленка вытащила ленту из карманчика сарафана, терпеливо ждала, пока отец заплетет ей косу, и мечтала. Она сегодня снова представляла себя русалкой. Хорошо, успела из волос кувшинку вытащить, да бросить в воду, а то батя бы отругал – уж очень он не любил эту игру. Ругал за нее. “Нечисть это, дочушка, русалки твои”, – говорил, – “А ты должна Бога чтить. Нехорошо”.
Аленка мать не помнила. Ей казалось, что они всегда с батяней вдвоем жили, никого другого в их хате отродясь не было. Правда, приезжала пару раз бабушка – худющая, высокая, злющая, настоящая оса с длинным острым носом-жалом, в чудно намотанном платке на некрасивой голове, их под которого торчали черные, аж угольные волосы без единой седой искорки. Она вглядывалась в Аленку острым немигающим взглядом, крутила её, мяла, шипела бате.
– Ты глянь, дурень. Я черная, отец твой, как цыган, да и ты в нас удался, смоляной. А она белесая, да еще с рыжиной. Как бы не твоя.
Аленка не понимала, как это она могла быть не батянина. А чья же? Он что, ее у чужих забрал, присвоил, как тетка Катерина чужого козленка, которого нашла в посадках? Глупость какая! Аленка даже помнила, как батя качал ее в кроватке. Всегда она была с ним. Так что пусть бабка не говорит, чего не понимает.
И лишь раз, копаясь в батином чемоданчике, который он запрятал на чердаке, она вдруг усомнилась, что больше с ними никогда и никого не было. Потому что с маленькой фотографии в резной деревянной рамочке, заботливо замотанной в тряпицу, на нее смотрела большеглазая женщина с косой, перекинутой на высокую грудь. У нее также вились кудряшки вокруг лица, как у Аленки, и даже на этой мутной фотографии было видно, какие густые и светлые у нее волосы. И смотрела она так на Аленку, что у нее защипало в носу – нежно, ласково, как будто хотела поцеловать. И Аленке тоже вдруг этого захотелось. И, не удержавшись, она коснулась фотографии губами, и ей показалось, что кто-то сзади подошел, положил теплую ладошку на ее темечко, погладил нежно, приласкал. А в старом пыльном зеркале, прислоненном к темным доскам чердачной стены, мелькнули большие серые глаза, они смотрели ласково, с любовью. Аленка обернулась – но никого не было, лишь легкий сквознячок, прорвавшись сквозь щели, озорно шевелил сухие листики прошлогодних березовых веников.