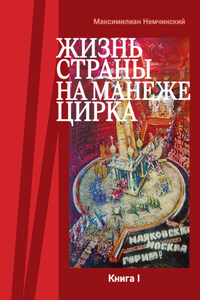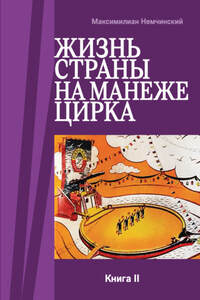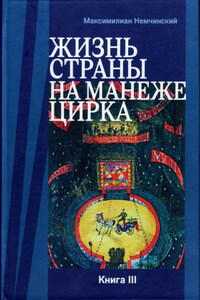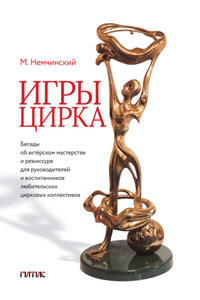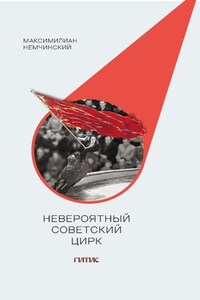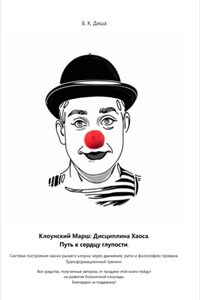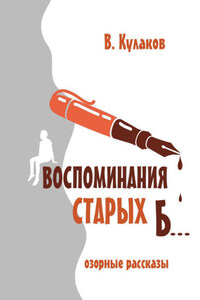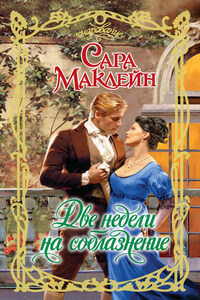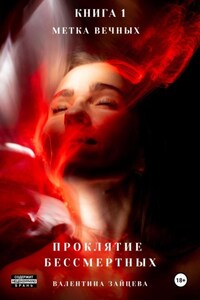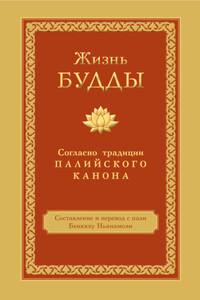Ни одно зрелищное искусство немыслимо без публики. Поэтому любому выступлению мастеров манежа всегда предшествовал анонс: «Спешите увидеть!» Или уже совсем категорично: «Все должны увидеть это!» Цирк и сегодня стремится отстоять свою уникальность.
Он и возник благодаря счастливому соединению всего, что раньше представлялось несовместимым. Лошади, которые в реальной жизни везли экипажи, мчались под седлом или неслись строем, здесь танцевали не хуже прославленных балерин или маршировали, как солдаты на плацу. Люди, пренебрегая всем известными законами и правилами, взлетали в немыслимых прыжках, взбирались в плечи друг друга, балансировали на канате или, стоя на голове партнера, перебрасывали и ловили предметы, которые и поднять было непросто, не сидели в седлах, а поднимались на них, а если гарцевали, то перебравшись на конские крупы. И не просто удерживались там, несмотря на смену аллюров и скорость бега лошадей, а старались каждый раз все больше усложнять опасное равновесие. Бытовое действие, тщательно отобранное, укрупненное, обобщенное, в цирке стало обретать образную содержательность. Акробатика на лошади обогащалась пантомимической игрой. Артист, благодаря этому, один или с партнерами, лепил, пусть крайне схематичный, но сюжет.
Вот каким образом навыки, к примеру, баланса приобретали логическое обоснование игрового сюжета (пользуюсь воспоминаниями Вильямса Труцци[1]):
«Сцена начинается парадным выездом исполнителя, костюмированного матросом. Стоя на медленно движущейся лошади, он мимирует уход в плаванье, прощаясь с остающимися на берегу: при ускоренном темпе коня всадник мимирует отплытие, поднимает парус, начинает грести (без аксессуаров) и, почувствовав себя в открытом море, от радости исполняет на коне лихой танец. Однако, по-видимому, уже успело стемнеть, и матрос располагается ко сну (лошадь пускается шагом: и ей, и наезднику необходимо дать передышку), как вдруг разразилась буря (пауза кончена, шамберьер щелкает, темп меняется), судя по всему превеликой силы; здесь следуют эквилибристические трюки с трудно достижимым равновесием, но шквал одолевает, матрос бросается в море (разумеется, не сходя с лошади) и подражает движениям пловца, лежа на груди и спине. Наконец, приходит помощь, матрос снова на борту корабля, и на коне, вращающемся сокращенным галопом, совершает свое триумфальное возвращение в гавань»[2].
Прием актерского наполнения исполнения спортивного упражнения оказался универсальным. Он позволял выстраивать и героические, и романтические, и даже комические сценки.
Начала меняться и групповая езда лошадей под седлом. В стремлении к разнообразию конных эволюций (диапазон которых все-таки ограничен) достаточно скоро убедились, что этому легко помогает их насыщение каким-либо тематическим началом. Оказалось, что его достаточно просто имитировать. Изменение костюмов наездников, арнировки лошадей, поддержанное сменой музыки, создавало впечатление совершенно новой вариации. Так стали появляться на манеже «Гусарские маневры», «Венгерские кадрили» или «Йоркширские менуэты». Благодаря обращению к тематическому началу демонстрация выездки превращалась в игровую сцену.
Блестящее владение распространенными навыками, в принципе бытовыми, – ездой на лошади, умением стрелять или метать, ловко перебрасывать предметы, сохранять равновесие и тому подобное – преображалось, когда перестало демонстрироваться само по себе. Просто упражнения в силе и ловкости начали обретать целенаправленность, становились выражением устремленности к реализации какого-либо конкретного намерения. Физическая натренированность обретала цель, смысл, становилась трюком.