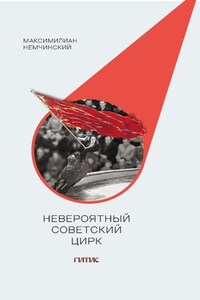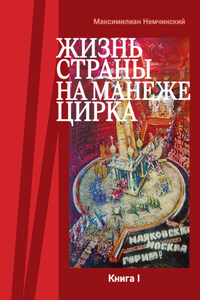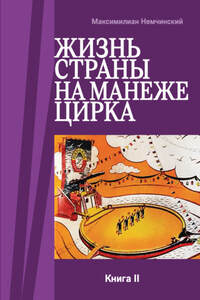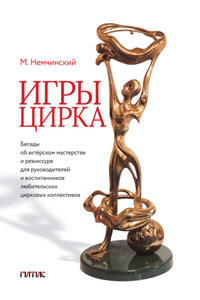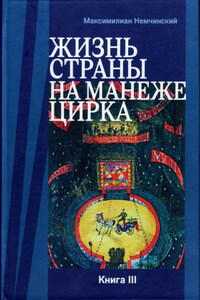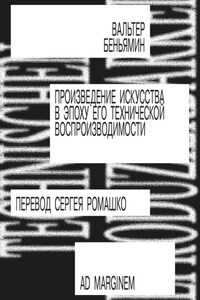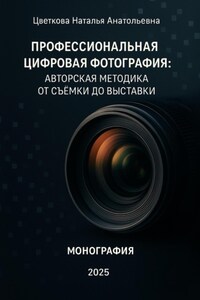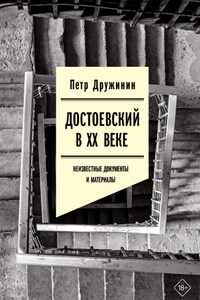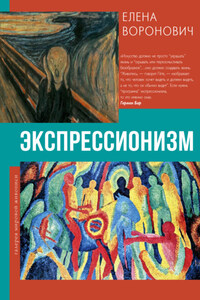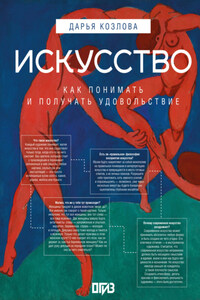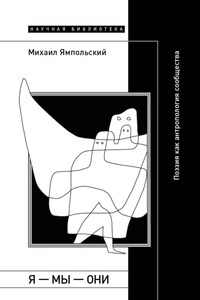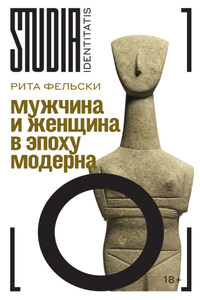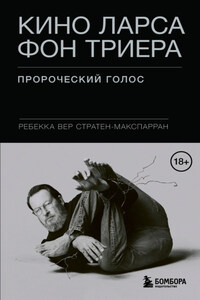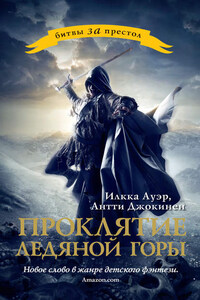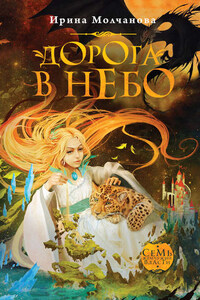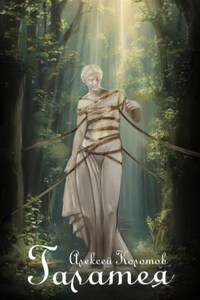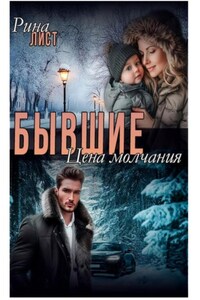Памяти наставников, коллег, учеников, сотворивших это чудо
…Если бы ничто не проходило,
не было бы прошлого времени;
если бы ничто не приходило,
не было бы будущего времени;
если бы ничего не было,
не было бы и настоящего времени.
Аврелий Августин
Чтобы воссоздать историю становления необычного циркового искусства нашей страны, следовало бы проанализировать работу всех артистов, выходивших на манежи республик Советского Союза с 1920-х гг. до последнего десятилетия минувшего века, или хотя бы назвать их. Это не удалось даже составителям двух энциклопедий: «Цирк» (1973 г., переиздание исправленное и дополненное 1979 г.), самокритично названной «маленькой энциклопедией», и «Цирковое искусство России» (2000 г.), книги заведомо неполной.
На такую трудновыполнимую задачу не решился и я.
Хочется надеяться, что в этой монографии передана – пусть и вынужденно пунктирно – упрямая вера цирковых артистов в свои способности, их готовность добиваться поставленной цели, несмотря на любые трудности и запреты. Цирк убежденно стремился (как стремится и сегодня) доказать и себе, и всем остальным, что он равноправное с другими, полноценное искусство своего времени. Поэтому, своеобразно следуя завету Ж.-Б. Мольера, он всегда старался, развлекая, все-таки поучать своего зрителя.
Созданию монографии помогла многолетняя помощь коллег по цирку, сотрудников Музея циркового искусства Санкт-Петербургского цирка и Научной библиотеки ГИТИСа, а также Инги Лозовой.
Эмблему советского государственного цирка держат силовые жонглеры Игнатий и Александр Нелипович (Нельгар)
Широко известно ленинское утверждение: «Из всех искусств важнейшим для нас является кино»[1]. Но и в наши дни жива еще убежденность, что передано оно не полностью. Якобы было сказано: «…кино и цирк».
Если это и не так, достоверно известно, что в декрете Совета Народных Комиссаров (СНК) «Об объединении театрального дела», подписанном его председателем Владимиром Ильичом Ульяновым (Лениным) и наркомом просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским, цирки были отмечены как «предприятия, с одной стороны, доходные, с другой стороны, демократические по посещающей их публике»[2].
Цирки, таким образом, сочли в 1919 г. пригодными для воспитания народа. Они наряду с государственными театрами (так с Февральской революции начали именовать бывшие императорские театры) попали под административные и художественные распоряжения Центротеатра Наркомата просвещения (Наркомпроса).
Так в ХХ в. возник первый в мире государственный цирк.
Первый в мире, но не впервые в нашей стране.
Еще в 1847 г. по личному указанию Николая I в столице Российской империи приступили к строительству каменного здания Цирка-театра и одновременно учредили при Санкт-Петербургском театральном училище Дирекции императорских театров цирковой класс. Учеников назначили из числа русских пансионеров. Они обучались всем принятым в училище дисциплинам, а также цирковому мастерству. О значении, которое придавалось этому начинанию, свидетельствует то, что обучал будущих циркачей глава и премьер гастролировавшей в столице французской труппы Поль Кюзан, а его переводчиком выступал сам глава Дирекции императорских театров Александр Михайлович Гедеонов. Спустя 25 месяцев первый в мире государственный цирк, Санкт-Петербургский цирк Дирекции императорских театров, выстроенный по планам парижского здания братьев Франкони и с той же роскошью, был открыт дивертисментом, в котором принимали участие русские выпускники. Еще год спустя в императорском цирке была осуществлена постановка первой русской военно-батальной пантомимы. При этом пантомимы, обреченной на зрительский успех, потому что основывалась она на реальных, подробно освещаемых прессой сражениях императорских полков с отрядами Шамиля, в 1848 г. взявшими в жесткую блокаду аул Ахты. Русский гарнизон выстоял.