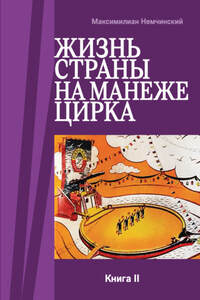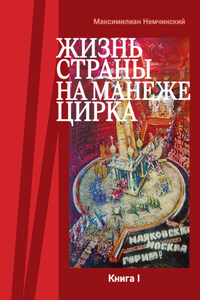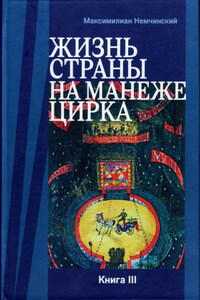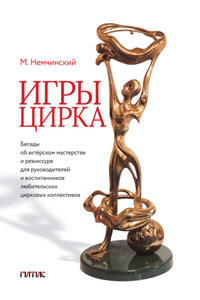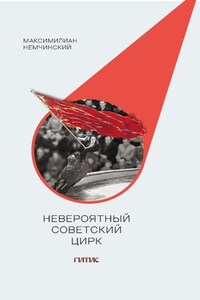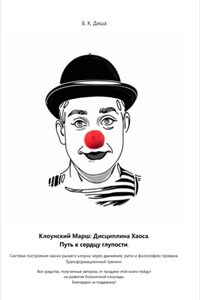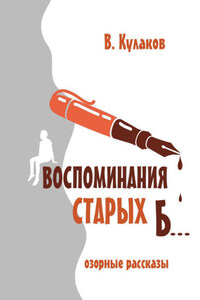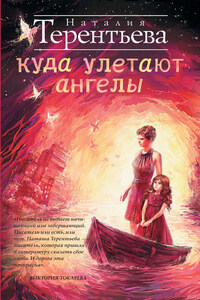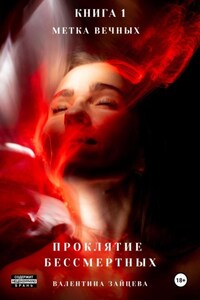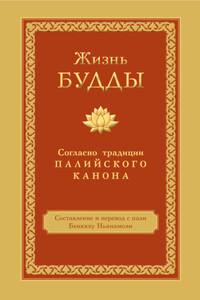Отображение современности
«Выстрел в пещере» – Ленинград, 1954 г
Отечественный цирк стремился развиваться как постановочный. Поэтому еще с довоенных времен при каждом цирке страны существовал работник, отвечающий за художественный (читай – идеологический) уровень представлений. Он именовался артистическим директором, главным режиссером, художественным руководителем. Но круг его обязанностей не менялся. Впрочем, выполнять их было весьма затруднительно.
Ведь при существующей системе конвейера номеров артисты приезжали в город по разнарядке Главка буквально за день-два до объявленной уже смены программы. Да и то некоторые, чаще аттракционы, задерживались в предыдущем цирке, опаздывали на премьеру. Постоянные коллективы, собранные в которые артисты передвигались по стране в годы войны (так легче было организовывать их транспортировку), сочли нерентабельными и расформировали. Так что художественный руководитель, он же главный режиссер цирка, куда номера прибывали, еле-еле успевал составить их очередность в программе и наспех прорепетировать пролог, в котором приглашенный из театра артист читал обязательный монолог о связях цирковых артистов с советским народом и партией. Кроме того, постановочная работа предполагала обязательное создание новогодних елочных спектаклей, доходами от которых цирки кормились.
Только Москва и Ленинград пользовались привилегией отбирать номера для очередной смены программ. А их, по соблюдаемой еще традиции, полагалось четыре цикла в год. Мало того, к каждой премьере приглашенным артистам шились заново костюмы. А под выступления наиболее эффектных номеров расстилали яркие, изобретательно апплицированные, специально изготовленные ковры в край барьера. И танцовщицы балетных трупп (пока они не были расформированы) исполняли хореографический пролог, открывающий выход артистов. Впрочем, и в этих показательных цирках, чем дальше, тем с большей осторожностью, начали прибегать к пышной декоративности подачи номеров, чтобы избежать обвинений в низкопоклонстве перед Западом или формализме. Артистам, не успевшим еще по-настоящему оправиться после напастей военных лет, приходилось самым решительным (иногда – разрушительным) образом менять образную содержательность номеров, традиционные декоративное, костюмное и музыкальное оформления. Сборы падали. Задолженность перед государством росла.
В начале 1949 года, судя по публикациям прессы, обнаружены были наконец виновные во всех бедах отечественного цирка. Газета «Советское искусство», перепечатавшая передовую «Правды» об антипатриотической группе театральных критиков, опубликовала статью «Апологеты буржуазного цирка».
Николай Барзилович[1] поименно перечислил в ней тех, кого он обвинял в художественных, а тем самым идеологических, просчетах развития искусства на отечественном манеже. Тон статьи был категоричен. «Только полностью разоблачив космополитов-теоретиков и режиссеров-формалистов, насаждающих на аренах советских цирков чуждые буржуазные тенденции, советское цирковое искусство сможет добиться нового расцвета, стать подлинным выразителем духовной силы народов, населяющих нашу великую Родину»[2]. Первым назван был Е.М. Кузнецов. Его упорная многолетняя литературная и практическая работа по отстаиванию образной природы циркового искусства вообще и ее утверждение в деятельности государственных цирков, в том числе практическая пропаганда пантомим, даже не упоминалась. Кузнецов обвинялся в том, что «услужливо восхваляет растленное искусство буржуазного цирка». Уличены в том, что «уводят советский цирк с правильного пути, пытаются отравить его тлетворным духом буржуазного искусства», были и Б.А. Шахет с А.Г. Арнольдом, режиссеры, еще на предвоенном отечественном манеже фактически утвердившие постановочный цирк нашей страны.