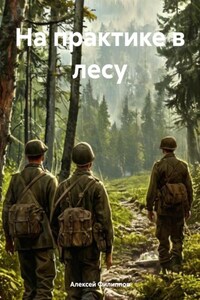Утро выдалось бледным, морозным и ветреным. Заполонившие небо облака загородили солнце, которое теперь напоминало о себе лишь еле заметным пятном над плотной стеной заснеженного леса. Потихоньку завывал ветер. Поднявшаяся поземка ядовито шипела и гнала над извилистыми снежными перемётами жесткую ледяную крупку. Эта крупка беспрестанно и зло била собравшихся на реке возле большой черной проруби людей по лицам, но люди не замечали нападок снежной мелочи. Они молились. Тон молитве задавал дородный багроволицый священник в тяжелом меховом тулупе, в шапке из шкуры волка и с большим серебряным крестом в руке. Громовым протяжным голосом он пел слова молитвы и сердитыми взмахами длани своей заставлял богомольцев часто кланяться. Те кланялись, глядя только себе под ноги и никуда более. Чуть поодаль, в стороне от кланяющейся толпы стояли три женщины с грудными детьми на руках. Два ребёнка кричали. Третий молчал и судорожно дёргался в руках матери. Женщин била дрожь – и от холода, и от ожидания важного таинства. Дрожащие руки их всё крепче прижимали к груди недавно рождённых детей…
Завершив молитву, священник положил на снег серебряный крест и, взмахнув рукой, обратился к женщинам.
– Давай! Чего трясётесь! Курицы!
Женщины немного помялись на месте, но ни на полшага не двинулись в сторону священника, никому из них не хотелось идти первой, потом они как-то разобрались между собой и мелкими шагами побрели к проруби. Самую маленькую и чуть горбатую пустил вперёд. Первой… И вот первая из них подошла к священнику и подала ему завернутого в лоскутное одеяло ребенка. Ребёнок истошно орал…
– Разверни, – прохрипел священник, насупив черные лохматые брови. – Живее, живей… У, копуша… Курица…
Дрожащей рукой мать торопливо стала разбираться с тряпьём, но никак не могла высвободить громко кричащего младенца. После очередной неудачной попытки она упала на колени, положила ребенка на жесткое ледяное крошево, торопливо развернула спутанные тряпки и, уже двумя руками, достала из смятого лоскутного одеяла бьющееся в истошном крике новорожденного человечка. Этот человечек, на фоне белизны окружающего снега, казался каким-то серо-желтым и совершенно беспомощным, только иссини красное кричащее личико показывало окружающему миру удивительное стремление к жизни.
Священник подхватил дергающегося младенца своими жилистыми бугристыми ладонями, словно филин зазевавшуюся мышь, глянул на его плечики и три раза макнул в ледяную воду. Ребенок на мгновение притих, а потом разразился таким громким воплем, что даже плечи священника невольно передернулись под тяжестью мехового одеяния. А тело младенца, между тем, тут же превратилось из слабенького да серенького в ярко красное живое и сильное.
– Давай! – крикнул священник второй матери, и та быстро подала ему уже голого ребенка. – Быстрее!
Священник глянул на тельце другого младенца, скрипнул зубами и окунул его в воду проруби раз, второй, а на третьем креститель вдруг вскрикнул, цепкие пальцы его разжались и белое извивающееся тельце, подхваченное течением, вмиг исчезло в черной воде. И все вокруг замерли от столь страшной нечаянности. Люди, будто окаменели, не в силах даже перекреститься… И даже ветер притих…
– А-а-а!!! – закричала мать, нарушая зловещую тишину и бросаясь к проруби, но священник резко оттолкнул её в сторону к куче из крошева промёрзшего льда.
– Не ори! Господь дал, он же и… Ещё родишь! Дура! Чего все раззявились?! Курицы! Другого давай! Быстро!
Баба захрипела и на четвереньках метнулась к ногам священника, но тот отшвырнул её, словно надоедливую собачонку, жестом приказывая мужикам оттащить несчастную мать от проруби и заорал что есть мочи.