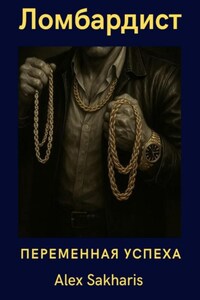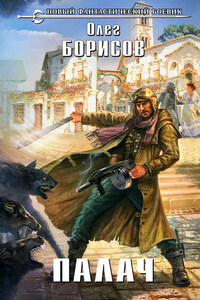Знакомая до тошноты картина. Спальный район города, что раскинулся в кольце усталых советских многоэтажек, словно гигантский бетонный кратер на теле земли. Окна, словно ячейки бесконечного улья, один за другим гаснут, погружаясь в синеватую мглу осеннего вечера. Жизнь, размеренная и предсказуемая, засыпает под убаюкивающий гул машин где-то вдалеке и сиплый лай привязанной во дворе собаки.
Тишина здесь – обманчива. Она не пуста, а густа, насыщенна отзвучавшими за день ссорами, сдержанным смехом, эхом телевизионных новостей. Она впитывает в себя всё, как старый ковёр впитывает пыль. И вот уже кажется, что сам воздух тяжелеет, становится вязким, осязаемым.
Взгляд, невесомый и беспристрастный, скользит по фасадам, выискивая точку входа. Вот окно с занавеской в ярких цветочек – там пахнет пирогами и стариковскими лекарствами. Вот – с голубоватым мерцанием телемонитора: кто-то допивает пиво, уставившись в говорящий экран. А вот – тёмное, с подушкой, прислонённой к стеклу – ту ребёнка уже уложили, и родители торопятся к своему взрослому, тихому отчаянию.
И вот – оно. Окно на четвертом этаже. В нём ещё не погас свет. Неяркий, розоватый отсвет ночника. Детская.
Внутри – мальчик. Ему пять. Его зовут Коля. Он уже спит, уткнувшись носом в подушку, сжимая в руке плюшевую лапу медведя. Его дыхание ровное, безмятежное. Мир ребёнка прост: любящие родители за стенкой, любимый котёнок, тёплая кровать. В этом мире нет места монстрам. Пока нет.
Луна, бледная и размытая, словно старая водянистая жемчужина, выплывает из-за рваных облаков. Её жидкий свет проникает в комнату, ложась на пол бледной трапецией. В этом серебристом луче, как в прожекторе, танцуют мириады пылинок. Они кружатся, поднимаются и опадают, беззвучный балет невидимых частиц бытия.
Но вот их движение меняется. Ровный хаос сменяется странной, упорядоченной картиной. Пылинки начинают обтекать нечто невидимое, стоящее в самом углу комнаты, куда не попадает ни лунный свет, ни розовый отсвет ночника. Они очерчивают контур – высокий, неестественно вытянутый, с ломаными, острыми линиями. Они роятся вокруг этой пустоты, этой чёрной дыры в самой ткани комнаты, будто пытаясь её заполнить, запечатать, но не могут. Пустота отталкивает их, оставаясь стерильно чистой, абсолютно чёрной.
Тень от комода, которая должна лежать смирно, вдруг шевельнулась. Не потому, что сдвинулась занавеска. Нет. Она дёрнулась сама по себе, на мгновение слившись с той аномалией в углу, став её частью.
Глава 1. Красный грузовик
Ужин пахнет гречкой с котлетой и чем-то ещё, «взрослым» и «горьким», – этим запахом от папы всегда тянуло, когда он приходил с работы. Таким же горьким и усталым, как его глаза. Коля тыкал вилкой в котлету, стараясь сделать так, чтобы жареная корочка отлетела, а осталось одно только мясо, сочное и серое. Рот уже жевал воображаемый вкус, а вилка всё тыкала и тыкала.
– Коля, хватит издеваться над едой, – голос мамы прозвучал от раковины, где она мыла посуду. Она всегда знала, не глядя. У неё на затылке были глаза, маленькие и зелёные, как крыжовник.
– Он не издевается, он экспериментирует, – лениво сказал папа, откладывая телефон. Он сидел напротив, и его большое лицо, казалось Коле плоским экраном, на котором сменялись картинки: вот он хмурый, вот уставший, вот пытается улыбнуться. Сейчас было «уставшее». – Может, у нас растёт великий кулинар. Будет котлеты «переосмысливать» .
– Скорее. у нас котлеты по всему полу просто будут, – вздохнула мама, но Коля слышал – она улыбалась. Он любил этот звук – мамину улыбку в голосе. От него становилось тепло и под одеялом, и внутри.
Папу звали Дмитрий. Он пахнет офисом, кофе и чем-то металлическим, как лифт. Маму звали Светлана. Она пахнет всегда по-разному: то булкой с корицей, то пирогами, как в магазине с выпечкой, то просто собой – самым лучшим запахом на свете. А его звали Коля. Ему было пять лет, и он пах, наверное, пятью годами, фломастерами и любимым красным грузовиком.