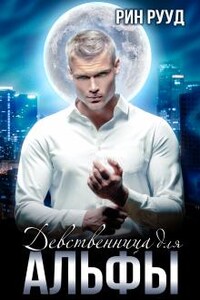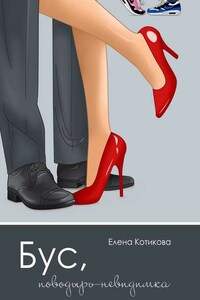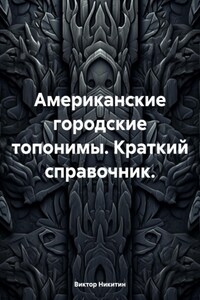— Тебя мать продала мне, — с рыком тащит к двери, игнорируя мои
крики. — Ты теперь моя собственность.
Огромный, как медведь. Ткань его рубашки натянута на бицепсах и
груди и вот-вот разойдется по швам. Мне страшно, я ничего не
понимаю. Я этого белобрысого верзилу вижу первый раз в жизни, а
мать, к которой я заглянула в гости по ее же просьбе, сидит на
кухне и хлещет виски прямо из бутылки.
— Мама! — мой визг ужаса саму меня оглушает. — Мама!
Он впечатывает в меня в стену, стискивает пальцы на шее и цедит
сквозь зубы:
— Рот закрыла, крошка.
Глаза — осколки зимнего неба, а лицо с высокими скулами искажено
гримасой ярости. Его голос отдается в голове вибрацией, и глотку
схватывает спазм ужаса. Я могу лишь сипло выдохнуть.
— Вот так, — ухмыляется, обнажая белые зубы, — крики и визги
уместны лишь в спальне, милая, а сейчас они меня раздражают.
По щеке скатывается горячая слеза. Тело не слушается, я даже
руку не могу поднять, а взгляд незнакомца словно проникает в мое
сознание и оплетает его черной паутиной отчаяния. С нажимом
проводит по нижней губе большим пальцем, и из его груди поднимается
низкий клокочущий рык, что отзывается во мне вибрацией, которая
уходит теплой волной вниз живота. Я испуганно и непонимающе
выдыхаю.
— Моя собственность, — тихо повторяет мужчина, — я тебя
купил.
Нельзя взять и купить живого человека. В каком веке мы живем?
Рабство наказуемо, но боюсь, что верзиле, чьи глаза горят осколками
льда, начхать на законы и правила. и если найдется тот, кто
выступит против него, то он ему кадык вырвет.
— Цезар Северный Ветер, — стискивает подборок в стальных
пальцах. — Мое имя.
— Соня, — я заикаюсь и трясусь.
— Я знаю.
— Прошу…
— Рот закрыла.
Грубо. От обиды я всхлипываю, но замолкаю. Рывком тащит за
собой, недовольно рыкнув. Да что же он рычит? На пороге я хватаюсь
за косяк и сдавленно шепчу через спазмы боли, что плавят
глотку:
— Мама…
Выволакивает на поскривыющее крыльцо с продавленными грязными
досками, и я, не удержав равновесие, падаю на колени. Дергает на
себя, вынуждая встать, и опять душит:
— Моя.
Что-то в голове натягивается и рвется. Я не чувствую тела. Страх
отступает, и на его место приходит вялое отупение. Цезар щурится,
убирает руку с шеи, и я делаю хриплый и судорожный вдох. Спускается
с кривых ступеней, и я следую за ним во мраке позднего вечера,
будто на невидимом поводке. Разминает плечи, шею с хрустом
позвонков и шагает по дорожке мимо кустистых сорняков.
Несколько мелких шагов, и оглядываюсь. В окне вижу маму, которая
утирает слезы и прикладывается к бутылке, а затем задергивает
штору. Продала… И это конец.
— Соня, — тихий голос, что похож на зловещий шелест, проникает в
мозг тонкими нитями. — Упрямая сука.
Кричать бесполезно. Соседи проигнорируют. Сюда и полиция лишний
раз не приезжает. Очень неблагополучный район. Как я была
счастлива, когда его покинула несколько месяцев назад. Верила, что
вырвалась из ловушки…
— Соня, — звучит голос Цезара у шеи.
Я разворачиваюсь к нему, касается щеки, с улыбкой запускает в
волосы пальцы, а затем сжимает их и запрокидывает мое лицо:
— Твое упрямство меня заводит, крошка.
Дергает за волосы и под мои крики тащит к калитке:
— Одно удовольствие таких перевоспитывать и учить покорности и
послушанию.
Спотыкаюсь, падаю, а Цезар с бесчеловечным равнодушием вновь
дергает меня, вынуждая встать. Я отбиваюсь от него со слезами, но
ему мои удары, как поглаживания.
— Помогите, кто-нибудь… Умоляю.
— Прибереги свое умоляю для меня, Соня, — с угрозой смеется
Цезар. — Умолять меня ты будешь не раз. Мы с тобой хорошо
повеселимся.
Колени и ладони стерты от множества падений, голос охрип и осип
от криков, а Цезару и дела нет. Он неумолимо тащит меня за волосы к
черному и большому внедорожнику, что припаркован в тени
раскидистого платана на противоположной улице.